Там люди, з якими ми стояли на Майдані. Генерал Рубан — «Украинской правде».
В укроСМИ редко случаются честные публикации. Но бывают. Одна из них — интервью генерал-полковника Рубана. Генерал-полковник Владимир Рубан уже больше трех месяцев занимается освобождением людей, попавших в плен на востоке Украины. Недавно он основал специальный центр, куда могут обращаться все, чьи близкие оказались в заложниках.

Рубан для многих уже стал легендой. Он единственный в Украине профессиональный переговорщик, которым, поговаривают, восхищается сам «Бес» — горловский командир боевиков ДНР Игорь Безлер. Именно Рубану удалось договориться об улучшении условий содержания, а затем вытащить из плена 17 человек — военных из 72-й и 25-й бригад и нескольких гражданских, в том числе Василия Будика, которого Безлер в мае показательно «расстреливал».
Генерал Рубан редко улыбается. Он похож на человека, у которого стальные нервы и безупречная выдержка. Его невозможно расколоть. Кажется, будто в голове у него выстроен план на много шагов вперед, и каждый его ответ — это лишь верхушка айсберга.

Генерал-полковник Владимир Рубан. Фото dnepr.com
Корреспондент «Украинской правды» поговорила с генералом о том, что происходит с задержанными в плену, гуманности выкупа и о том, кто воюет на территории востока Украины.
— Сколько людей вы уже освободили?
— Больше ста. Мы перестали считать после сотого.
— А сколько вам поступает звонков в день от людей, которые ищут пропавших?
— Около трехсот.
— Вы сами на них отвечаете?
— Нет, у нас есть отдел, где специалисты на них отвечают. Раньше у нас освобождением заложников занимался Офицерский корпус — десять человек, которые накапливали информацию, — но не было системности.
— Какова сейчас ваша роль в этой структуре? Я знаю, что вы единственный профессиональный переговорщик, и на вас все держится. С вас, собственно, все началось. Как это будет работать теперь?
— Так же и будет работать. Я возглавляю этот центр.
— Но ведь все держится на вашем авторитете?..
— Нет другого способа там, за линией фронта. Все держится действительно на человеческом авторитете. Если человек держит слово, с ним работают. Если не держит, — выказывают недоверие.
— Те люди, которые с вами в центре работают, — им там доверяют? Они работают автономно?
— Нет. Каждые переговоры провожу я лично. Есть ключевое слово-пароль, после которого считается, что мы пожали руки — и теперь начинается работа. Это слово офицера. Если я даю слово офицера, значит, мы уже договорились. Та сторона знает, что я и офицеры сделают все возможное, чтобы слово сдержать. Мы так и делаем, независимо от обстоятельств. Слово нарушить мы не можем.
— Это же огромный объем работы. А в последнее время ведь стало больше пленных...
— Да, намного больше. Но теперь уже работу ведет и администрация президента, и лично президент понимает необходимость этой работы, и Служба безопасности, и Министерство обороны. Они увидели, что так можно работать. Они увидели пользу от этой работы.
— А раньше они этой пользы не видели?
— Не осознавали до конца. Необходимо было какое-то время. Это все-таки большинство новых людей. Новый министр обороны, новая АП, новый президент.
— Тем не менее проблема появилась еще в марте в Крыму. Тогда всю эту работу пришлось выполнять волонтерам, журналистам. Мы ездили, пытались вызволять людей. Это было непросто, поскольку у нас нет подготовки, и мы наверняка делали что-то не так. В то время реально не было ни одного человека, который мог бы выступать в этой роли.
— У нас в академии СБУ была кафедра, которая готовила переговорщиков. Я не знаю, где они. Никто не знает. В милиции есть... (поправляет себя — авт.) должно быть — специальное управление по работе с заложниками и по переговорам в сложных ситуациях. Наверное, не было необходимости, и нет этих специалистов.
— То есть таких людей готовили, но до сих пор структуры такой нет?
— Возможно, она есть, но хорошо прячется.
— И результатов работы мы тоже не видим.
— Да, потому что найти мы их не можем. Но сейчас уже хороший результат в том, что обе стороны поняли, что надо освобождать. Попутно это решает многие задачи: такие, как содержание в плену.
Когда людей обменивают, я на них смотрю. Привожу людей с этой стороны, и мы критически смотрим на то, как содержатся пленные. Мы договорились до того, что с пленными будут обращаться удовлетворительно.
Начиналось с того, что их босиком не будут передавать, что им будут давать какую-то обувь. Потом мы смотрели уже по условиям содержания, кого кормили, кого нет. Договорились: их должны кормить. А дальше — лечение. Пленным, которым необходимо медицинское лечение, обе стороны нужную помощь оказывают.
В Луганске было такое: чтобы спасти офицеру руку, доктора рекомендовали немедленно его госпитализировать на стационар. У него началась гангрена, необходимо было сложное медицинское вмешательство. Я не успевал приехать из Киева, чтобы его срочно доставить, и его перевезли в Россию. Спасли жизнь человеку, пленному.
— А потом его вернули?
— Его еще не вернули. Там сложное медицинское вмешательство, длительное. Я не знаю, какова его дальнейшая судьба, вернут или не вернут, но главное, что пленных не расстреливают — их готовят для обмена.
— Есть же разные виды пленных. Есть пленные гражданские, есть военные. Есть разные причины, по которым берут в заложники. Со многих просто выбивают деньги. Как вы работаете с теми бандами, которые забирают людей ради прибыли, которым не нужен обмен?
— Нужно искать деньги и выкупать этих людей.
— Но по международным принципам это не совсем гуманно, поскольку на эти деньги они покупают оружие, которым продолжают убивать людей...
— Здесь надо воспользоваться опытом Израиля. Израиль не ведет переговоров с террористами, и в подобных ситуациях людей не выкупают за деньги. Они хвастались этим довольно длительное время. Сейчас же они поняли ошибочность этой тактики и создали у себя центр переговорщиков, где рассматривают разные ситуации по освобождению пленных, в том числе выкуп за деньги. Этот вариант должен быть страховочным.
Если со стороны тех, кто удерживает, это позиционные торги — они заявляют, что отдадут человек только за деньги, — то необходимо идти с ними на контакт и работать с деньгами.
Но если они подчиняются хоть каким-то образом общему руководству Донецкой и Луганской республик, то в таких случаях я нахожу этих пленных, вступаю в торги, сообщаю руководству — и они сами отдают этих пленных, меняя их, разрушая схему продажи людей.
Мы изначально договорились, что за деньги людей не выкупаем и не торгуем. Такая возможность у нас есть.
— А чем это выгодно руководству ДНР и ЛНР?
— Они таким образом показывают заботу о своих людях, которые попали в плен или содержатся в тюрьмах — так же, как это выгодно президенту (Украины — прим. авт.). Он показывает заботу о своих гражданах. Это правильно. Ему это доверили избиратели, они находятся в плену, и он должен вытянуть их оттуда.
Так же поступает и луганская и донецкая стороны со своими соратниками. У них вообще идея всех своих освободить. Это нормально, это по-человечески.
— А это возможно?
— Да, это возможно.
— То есть конечная цель — обменять всех?
— Это идея-максимум. Моя работа — освободить людей со всех сторон.
.jpg)
«Комбайнеры шли с работы, их приняли за разведчиков, прострелили каждому колено»
— Объясните мне, в чем разница и сложность в освобождении военнопленных и гражданских. Насколько я понимаю, с гражданскими сложнее?
— Особой разницы нет. Просто в одно время было больше гражданских активистов среди пленных. С военными проще, потому что к военным никаких вопросов не возникает, идешь и освобождаешь.
Если же пленный гражданский, мне требуется перепроверить, стоит ли освобождать этого человека, или менять его, или нужно уговорить сторону, чтобы его просто отпустили.
Недавно позвонила супруга одного из пленных, рассказала, что три комбайнера шли с работы вечером через блокпост, их приняли за разведчиков и начали допрашивать. Прострелили каждому колено. А в плену с простреленным коленом многие соглашаются «быть разведчиками». Даже местные жители.
— Да даже без простреленных колен...
— Да, даже без простреленных. В общем, выяснилось, что они все-таки просто комбайнеры, и отпустили. Такие случаи происходят с обеих сторон. Это ненормально. Это надо прекратить.
— А что касается идейных людей, которых задерживают в ДНР и ЛНР? С ними сложнее работать? Гражданского активиста, который выступает за единую Украину, сложнее вытащить, чем комбайнера?
— Сложнее. Он подлежит обмену. Если он просто волонтер, который привозил продукты питания, это проще. Если привозил бронежилеты, литературу, ездил сам с оружием, то сложнее.
— Есть один такой тонкий момент: когда пропадает какой-то человек, как должны вести себя СМИ и блогеры, чтобы не навредить? Многие уже советовали, что если предавать историю сильной огласке, это усложняет работу.
— По-разному. Да, бывает, что это усложняет работу и переговорщику, и самому пленному. Информацию нужно давать дозировано, без каких-либо неточностей.
Например, пишут, что забрали активиста «Правого сектора» — а парень не знает, что такое «Правый сектор», ну, был у него флаг черно-красный, но это не значит, что он активист. Для той стороны это будет аргументом держать его дольше, пытать жестче.
Ну, и пленным надо себя аккуратно вести. У меня был случай, когда человеку, которого приехали менять, сказали, что его отпускают на свободу, и попросили рассказать, чего он все-таки наделал. И он наговорил много лишнего. В результате я его уже три недели не могу забрать.
— Это такая уловка у них была?
— Они не готовились к этому. Случайно спросили, а он случайно наговорил на себя. Очень много пленных наговаривают, создают себе ценность, чтобы выжить. Им кажется, что сейчас их расстреляют, и надо показать какую-то важность. Они говорят, что они корректировщики, например. Я знаю с десяток «корректировщиков», которых держат в Донецке. Они не корректировщики, они не знают, что это.
— А как они должны были себя повести?
— Мне сложно сказать. В каждой ситуации в плену пусть каждый ведет себя так, как видит и может.
— Но нужно вести себя по-честному?
— Лучше по-честному, если ты не военный и не профессиональный разведчик.
— Два дня назад ко мне обратились люди, которые сообщили, что в Макеевке задержали блогера, который якобы был корректировщиком. Его матери сказали, что он будет расстрелян. Как вести себя в такой ситуации?
— Во-первых, надо сообщить в наш центр. Мы сразу связываемся с человеком, который его удерживает, или с его начальством, и обговариваем эту проблему.
Никто не будет расстреливать «во вторник в 12 дня». Никто не сможет поставить условие освободить кого-то из тюрьмы к вечеру субботы. Для этого и нужны переговорщики, чтобы объяснять процедуры освобождения и разговаривать.
Это такой способ усилить свою позицию, но надо понимать, что когда командир просто меняет людей, эта позиция принимается. Когда он говорит, что до вторника расстреляет человека — то автоматически переходит в ранг террориста, потому что угрожает жизни пленного. Это неправильно.
— А вы знаете, сколько человек за все это время было расстреляно в плену?
— Я знаю приблизительную цифру, но не скажу ее.
— А можете ли вы сказать, где сейчас опаснее всего? Где применяют самые жестокие пытки?
— Нет такого понятия, как «самые зверские» или «самые опасные». Мы работаем три месяца, и условия содержания везде более-менее одинаковые.
Есть редкие отщепенцы, они есть всегда во всех войнах. У кого-то нервы сдают, кто-то изначально ненормальный. Кто-то хочет расстрелять пленных, ходит с автоматом. Кто-то хочет бросить гранату в камеру с пленными, отомстить, так сказать. Это, как правило, люди невысокого морального уровня, необразованные, просто шалят словами. Или же доведенные в результате психического или алкогольного состояния до такого желания.
«Уберите слово летчик и поймите, что я — истребитель»
— Что это за люди, с которыми вы ведет переговоры? Какой у них характер? Ради чего они это делают? Вы наверняка успели себе портрет сложить.
— А ради чего украинская армия захватывает пленных? Что это за люди в украинской армии и батальонах?
.jpg)
— То есть для вас это одни и те же понятия?
— А для вас не одни и те же? Для вас шесть миллионов луганских и донецких жителей вдруг стали врагами?
— Нет, мирные жители не являются врагами.
— А те, кто ходит с оружием — их 15 тысяч — они враги?
— Ну, вообще-то да. Это люди, которые угрожают жизни и здоровью мирных людей.
— Армия угрожает жизни и здоровью мирных людей. Она для этого создана. Офицеры, закончившие военные училища, — это профессиональные убийцы, или вы не знали об этом? Не знали? Это не человек, который ходит с флагом на параде, это человек, который в окопе убивает другого человека.
Он на это учился, так же, как я — летчик-истребитель. Красивое слово, в быту привычное. Уберите слово летчик и поймите, что я — истребитель. Я должен что делать? — Истреблять.
Я не отношусь к тем людям так, как относитесь вы к врагам. Вам легко с этой позиции. А я этих людей давно знаю. Там офицеры, там афганцы, с которыми мы протестовали против Януковича. Там люди, с которыми мы стояли на Майдане. На Евромайдане. Но мы его так не называли.
— Там — это где?
— Там — на той стороне. За ленточкой. В Луганской и Донецкой республиках.
— То есть эти люди стояли с вами на Майдане?
— Да, они теперь воюют с украинской армией. Они с двух сторон.
— А почему они это делают?..
— А почему на Майдане это делал «Правый сектор»? Или почему люди стояли на Майдане?
— Если они были на одном Майдане, почему они теперь выступают против тех людей, с которыми стояли рука об руку?
— Потому что люди, которые были на Майдане, удовлетворились снятием Януковича — и все. Больше ни одно требование не выполнено. А эти решили до конца идти. Им мало того, что сняли Януковича, им нужны реальные изменения. И большинство пунктов, которые они требуют — те же, что провозглашались на Майдане.
— Но выглядит это совершенно по-другому.
— За это надо журналистов поблагодарить и всех остальных, кто обозвал их террористами. И тех, кто придумал слово «АТО» вместо слова «война».
— Но Россия не признает это войной...
— Россия здесь при чем?
— По-вашему, Россия не участвует в этом конфликте?
— Вы там видели российские войска?
— Я видела военных из России.
— Вы видели участие российских войск?
— Официальных — нет.
— Вы и неофициально их не увидите, потому что их там нет. Если вы видели какого-то человека русского или военного, это не означает участие России.
— А как это назвать?
— Как угодно. Вы знаете, что наемники воюют с обеих сторон?
— Да.
— С обеих. И с украинской, и с луганской и донецкой. Ну вот как это назвать, что и Польша воюет вместе с нами, и Швеция?
Есть нехороший анекдот: «Россия воюет с Америкой до последнего украинца». Это больше похоже на правду. Но это геополитика, и разбор совершенно в другом месте. Специалисты по национальной безопасности могут об этом говорить.
Мы же работаем непосредственно в поле и, пользуясь этими знаниями и своим опытом, называем вещи своими именами. Если там есть поставка российского оружия, это одно дело. И какой человек его поставляет? Путин может запретить, это другой вопрос. Если там есть российские офицеры, это тоже другой вопрос. Это не участие России.
— А как это назвать?
— Вы были там?
— Я последние полгода только этим и занимаюсь.
— И что, все российские офицеры? Чечены все?
— Нет, не все, но костяк. Люди, которые руководят процессом.
— Да Господь с вами. С украинскими паспортами?
— Со вполне себе российскими паспортами.
— Это называется «советники».
— Инструктора.
— Еще в Советском Союзе мы уезжали в другие страны, как «шахтеры, по обмену опытом» — были военными советниками. Точно также советуют и специалисты с разных стран, инструктора. Не потому что страна туда отправляет, а потому что народ просит.
Вот мы собираемся сделать с вами банду маленькую, но нам нужен специалист, и мы его приглашаем. Бандита какого-нибудь. Для того чтобы он посоветовал, как и что делать.
— Но люди, которые рассказывают, как и что делать, все из России. Как можно говорить о том, что этот процесс является внутренним, если он управляется извне?
— Вы так хотите, так и говорите.
— Нет, я пытаюсь разобраться.
— Разбирайтесь. Я вам сказал свое мнение. Все вопросы решаются внутри Украины. Войну уже можно было выиграть одной и другой стороне восемь раз.
— Если бы не...?
— Если бы было желание выиграть, а не растянуть. Огонь прекратить и договориться — можно было за три месяца. В любой ситуации можно остановить огонь и договориться.
— Почему, по-вашему, этого не происходит?
— Кто-то не заинтересован в прекращении войны. Я могу договориться.
— А вы будете это делать?
— Буду.
Сейчас не применяется закон о войне. В Киеве боятся военного положения и не знают, что это такое. Гражданские люди, которые находятся у власти, боятся военных, потому что когда будет военное положение — гражданские, возможно, будут не у власти, станут руководить военные. В результате страдает вся инфраструктура, люди страдают.

— Вы считаете, что нужно вводить военное положение?
— Если идет война, значит, нужно вводить военное положение. Журналистам нужно запрещать писать о войне, потому что они не понимают, что это такое. Разрешить нужно только специалистам. Должна быть жесткая цензура по этому поводу, чтобы не навредить. Я противник цензуры, но я так говорю, потому что знаю.
Налоги должны собираться правильно, а не так, как Яценюк выпрашивает у парламента добавление какого-то налога по каждому закону.
На войне все очень просто. Есть война, есть вопросы, есть победа. Есть цель. А здесь непонятно что.
— Киев просто стремится продолжать жить мирной жизнью...
— Киевляне стремятся. А правительство разве стремится?
— Никому же не выгодно военное положение. На Западной Украине как будто нет войны.
— А квартира страдает, если военное положение только на кухне? А в спальне все нормально? Это же ваша квартира, вы же должны управлять квартирой своей, поэтому военное положение везде: и в спальне, и на кухне.
Западная Украина, хочет, не хочет — но участвует в войне, отправляет своих солдат. Я их вижу, потому что вытаскиваю из плена, они по-русски слова произнести не могут. Они еще как участвуют.
Так что это не антитеррористическая операция. Это война.
— Война какая?
— Новая. Непонятная. Гибридная. Почти гражданская.
— «Почти» — потому что есть «консультанты»?
— Консультанты есть всегда. Почти гражданская, потому что идеологически их различить почти невозможно. Воюющие стороны хотят хорошо жить. Они хотят, чтобы были ровные дороги, сытая семья. Для них нет большой разницы, примкнуть к России или к Евросоюзу или остаться самим.
Они хотят лучше жить. Всех довели до нищеты, ту и другую стороны.
— Но война доводит еще сильнее.
— Война — это прогресс всегда: и в душах, и в завтрашнем дне. Украина — богатая страна, она нищей никогда не будет. Я думаю, что война закончится, и люди станут богаче.
— Вместе с Донбассом?
— Вместе.
— То есть Приднестровье-2 там не получится?
— Нет. Разрушена инфраструктура, поэтому не получится.
Украинцы — работящие люди и умеют грамотно работать. Инженера шикарнейшие, и в Донецке там все-таки один из элитных вузов Украины — Политехнический институт.
— Снаряд туда недавно прилетел...
— Это серьезный вопрос — чей снаряд. Есть какая-то третья сторона — мы сейчас ее так называем — которая разбрасывает эти снаряды и сваливают на одну или другую сторону.
— Что это за «третья сторона»?
— Я пока не знаю, не владею такой информацией. Мы называем это третьей стороной. Безлер называет третьей стороной, и в Донецке так говорят. Их ищут. Смотрят, что это за диверсанты.
«Мать не должна была бездумно голосовать, в следующий раз она будет голосовать сердцем»
— Вы говорите, что люди одинаковые с обеих сторон. А вот ситуация: маме сказали, что ее сына хотят расстрелять. Привели к нему палача и священника — ей так сказали, — и она готова на коленях ползти умолять ополченцев, чтобы ее сына отправили хотя бы рыть окопы. Это правильно?
— Да, это правильно. Когда родственники заботятся о близких, которые находятся в плену, это прекрасно. Так и получается семья.
А мать не должна была бездумно голосовать, и в следующий раз она будет голосовать сердцем, с учетом пережитого. И сын будет правильно выбирать свое правительство.
— То есть это такой путь очищения, по-вашему?
— Да. Мы перестали ездить к родителям и вспоминать их часто.
— А ополченцы потом смогут «выбирать сердцем»? Научатся ли они думать в таком ключе?
— Ополченцы — точно такие же украинцы. Они не из другого теста, у них та же группа крови, она такая же красная. Они учились в таких же школах, сидели за одной партой.
— Но у них немного другое положение. Они в меньшинстве.
— В каком меньшинстве? Сколько надо убить людей, чтобы Донбасс считался украинским? Сто тысяч? Двести?
— Ни одного бы...
— То есть нужно разговаривать. Договариваться. Надо научиться слушать. Хороший переговорщик мало говорит и много слушает.
— А как вы думаете: дончане, которые привыкли пассивно относиться к политике и к жизни, научатся чему-то?
— Конечно. Они уже научились. Мы все уже научились. После Майдана Украина такой же не будет, а тем более после этой войны.
Мы все теперь другие.



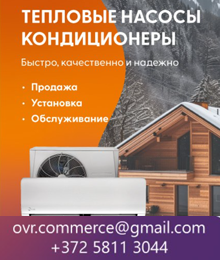







Комментарии
Отправить комментарий