Гнилое яблоко, собачья жизнь и место силы: как переехать из Москвы в мусульманскую деревню и не пожалеть
«В Москве я десять лет участвовала в какой-то бессмысленной гонке: работала, впахивала, кредиты на ремонт квартиры, кредиты на машину, какие-то “айфоны”, вечеринки, пьяные посиделки, в которых вместо разговоров — сплетни и споры о том, молодец ли Путин. Вот бежала я эти десять лет — а толку? Что осталось? А здесь я чувствую, что делаю что-то важное. Что-то хорошее после меня останется. Поэтому нет, не жалею».
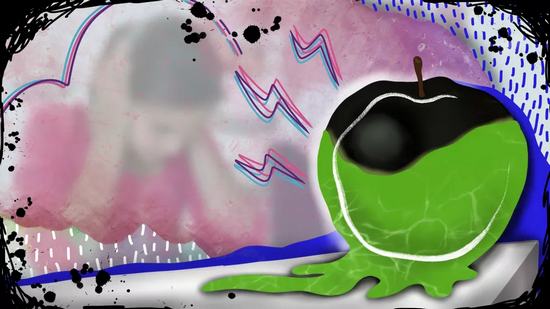
Гюзель Андержанова оставила хорошую работу в московском банке, переквалифицировалась в преподавательницу и переехала в мусульманское поселение в Воронежской области, чтобы учить физкультуре местных детей. За полтора года она стала вегетарианкой, начала вести ИЗО, музыку и труд, наладила контакт с детьми, настроила против себя других учителей и зареклась работать в государственной школе школе. Публикуем интервью Мадины Магомедовой о том, почему дети не хотят общаться со взрослыми, как найти подход к ребёнку с аутизмом, зачем школе помещение для особенных детей, если они всё равно их не принимают, как с помощью обычного обруча научить самых тихих и забитых учеников разговаривать, и почему современная образовательная система антигуманна.
Мы сидим на кухне в съёмной квартире в Бутурлиновке. Гюзель держит в руках два яблока и на их примере объясняет, почему она не может бороться с собственными страхами и остаться в деревне дольше запланированного срока.
— Вот смотри: есть я, здоровое яблоко, а есть гнилое. И если я останусь рядом с ним, то лучше не стану. Школьная система и люди в ней — как это гнилое яблоко. Останешься в ней — прогнёшься, уйдёшь — будешь собой.
Гюзель ведёт свой рассказ уже несколько часов тихим, еле слышимым голосом, чётко чеканя каждое слово. Иногда у нее наворачиваются слезы, но при ярком свете диодной лампочки, освещающей тесную кухню хрущёвки, это почти незаметно. Если не вглядываться, можно подумать, что у женщины просто покраснели глаза. Боня, бульдог небольшого, но крепкого телосложения, облокачивается всей мощной мускулатурой на ноги хозяйки, воздевает большие глаза, поскуливает и лижет края спортивных трико. Временами тяжёлое собачье дыхание и вздохи становятся громче наших голосов — будто животное сочувственно ловит неприятную волну длинного разговора.
Несколько лет назад москвичка поняла, что хочет стать учителем. Она с юности увлекалась футболом, воспитывала братьев и любила играть с племянниками. Однажды, проводя очередной день в офисе, Гюзель решила, что пора что-то менять: любовь к детям и футболу натолкнула на мысль об учительстве.
У Гюзель не было педагогического образования. Она искала разные варианты и наткнулась на некоммерческую организацию, которая предоставляла неплохие условия для переквалификации: летнее обучение с практикой, два года работы учителем в одном из регионов-партнёров, стипендия и документ о педагогическом образовании, с которым найти работу по душе стало бы легче. На тот момент Гюзель состояла в отношениях, строила быт с партнером и планировала ребенка. Услышав об идее уехать на пару лет в глубинку, любимый человек спросил: «Ты действительно этого хочешь?». После утвердительного ответа они вместе заполнили заявку на участие.
— Я тогда не думала об идеалах, не рвалась никому помогать. Я просто хотела получить диплом и потом спокойно работать в столице. А идея жить в селе казалась забавной — чистый воздух, природа, простор. А потом всё как-то резко поменялось.
Во время подготовительной практики Гюзель узнала о некоторых негласных правилах преподавания: о заповеди «не навреди», о принятии и осознанности, про которые писала святая педагогическая троица: Корчак, Макаренко и Пеннак. О том, что важно не только образование, но и твое отношение к ребёнку. А ещё о том, что творится в глубинках. Что у детей нет доступа к нормальному образованию, к медицине, нет возможности выехать в город и поступить в университет.
— Для меня это стало шоком: я всю жизнь жила в Москве, росла в обычной семье и не сталкивалась с подобными суровыми реалиями. Я просто хотела что-то изменить.
В 31 год Гюзель села в машину и отправилась жить в Бутурлиновку. Весь её скарб уместился в багажник.
Второй год несколько раз в неделю она ездит из райцентра в село Красное в Бобровском районе, чтобы преподавать физкультуру в школе, где численность учеников достигает 40. Из них 36 человек — дети приезжих турков.
По легенде, в XIII веке на берегу речки Мечеть монголы возвели селение из красного кирпича. После свержения ига посёлок заселили славяне, а на окраине вырыли колодец с и поставили красный крест. Сейчас 50% населения Красного — месхетинцы, в конце прошлого века переехавшие в регион из-за погромов в Ферганской долине Узбекистана.
При переезде Гюзель узнала, что в мусульманском поселении нет мечети, библиотеки, работы, спортивной площадки и полноценной коммуникации между детьми и взрослыми, а население настороженно относится к новым людям.
— Директор еще летом, после собеседования, позвонила нашему рекрутеру. Расспрашивала про меня, задавала какие-то странные вопросы из разряда «А вы уверены, что она та, за кого себя выдает?». Потом сказала: у нас деревня маленькая, все друг друга знают, слухи разлетаются быстро, поэтому мне нужно быть осторожной, а то мало ли что. Мы тогда не поняли, что случилось. Но я решила, что снимать там жилье не стану. И поселилась в Бутурлиновке.
— Ты даже после этого захотела там работать?
— Я как только приехала в Красное, поняла: здесь место силы. Мусульманская деревенька, природа, даже небольшой парк. Здесь все будто родное, — вспоминает Гюзель и на последней фразе прикладывает бледную от яркого света ладонь к сердцу. — Всё было решено.
Что-то после себя
У Миланы напряжено лицо: перерыв окончен, в её небольшой комнате оказывается человек — значит, пора приступать к уроку. Но через несколько минут разминок с широкого лба уходят морщины, губы растягиваются в улыбке, а тело с каждым махом руки сбрасывает все больше зажимов. Движения становятся менее скованными, более резкими, дыхание — громче, глаза расширяются, а вместе с ладонями начинают двигаться голова и туловище. Короткие толстые косы разлетаются от хаотичных, но энергичных импульсов туловища, подол желтой теплой футболки ползёт вверх, и хозяйка уже реже его поправляет: не до этого, руки заняты чем-то интересным, Гюзель Наиловна показывает новое упражнение.
Милане 13 лет. У нее аутизм и домашнее обучение. Каждый четверг после занятий Гюзель приезжает к девочке, чтобы за 45 минут помочь снять физические зажимы, рассмеяться и настроиться на следующую неделю. На языке учителей такие дети зовутся надомниками — это те, кто из-за особенностей здоровья временно или постоянно не может посещать школу, и поэтому принимают преподавателей из ближайшего учебного учреждения на дому.
Некоторые уроки для Миланы проводят онлайн — по соцквоте её родители добились оплаты интернета и бесплатного оборудования: компьютера, принтера, модема и прочего. К тому же, в местной школе трудятся педагоги из соседних населенных пунктов, где проблем со связью нет.
Для Гюзель личный контакт с ребенком решает многое. Девочка с аутизмом не переносит людей на своей территории, но установление в комнате связи через простые, на первый взгляд, но важные упражнения, выполняемые не через экран — сильнее оптоволокна.
— У вас какой-то звук под карманом! — говорит Милана, указывая пальцем на учительницу.
— Да это фантик.
Услышав ответ, девочка снова улыбается. Вместо наклонов туловища вправо-влево начинает раскачиваться в стороны, мотать головой и водить ладонями по ногам. Ей нравится отклоняться от заданного курса и следовать ворвавшемуся звуку конфентной обертки. Гюзель Наиловна не делает замечание, лишь указывает, что Милана перепутала левое плечо с правым.
— А теперь подними ножку. Сожми руками. И вот так стой. Держимся-держимся-держимся, — чеканит Гюзель и сама выполняет собственные инструкции, чтобы ребёнок повторял.
Равновесия хватает на несколько секунд, девочка чуть ли не падает, но вовремя встаёт на обе ноги, и улыбка становится шире. Спустя несколько минут упражнений она беззвучно смеётся, а её движения похожи на танец — раскованный, свободный, искренний. Так танцуют дети на многолюдных праздниках.
Дальше они перекидывают друг другу теннисный мяч. Если в начале Милана при любом удобном моменте держала ладони вместе, то спустя полчаса она размахивает ими от радости и хлопает: с каждым усложнением («кидай крест на крест», «а теперь считай сама», «а теперь кидай и считай», «а теперь кидаем два мяча») получается одолеть очередной зажим. И с каждой неудачей фраза Гюзель «ничего страшного» помогает продолжать хвататься неуверенными пальцами за бархатное покрытие ускользающего зелёного шарика.
— С какой силой ты кидаешь! Мне уже надо отходить подальше, — полушутя говорит Гюзель и отступает на несколько шагов, заметно увеличивая расстояние для броска.
Последние 10 минут отводятся на игру «Кто быстрее». Гюзель и Милана сидят близко друг другу, их руки почти соприкасаются. Личное пространство для девочки сейчас неважно: её цель — успеть распределить карточки по цвету быстрее и нажать на кнопку таймера раньше учительницы.
— Смотрите! — восклицает она, не отрываясь от игры и указывая ладонью в сторону.
Гюзель поворачивает голову, Милана раскладывает последние карточки и со всей силы жмёт на кнопку — по тесной глухо заставленной вещами комнате разлетается звон.
—Ты сжульничала! Ну ты хитрюжка! — смеётся женщина.
Хитрость повторяется несколько раз под тихий смех двоих людей, чей мир сконцентрирован на кнопке таймера и цветных фигурках на полу детской комнаты.
Счет 2:1 в пользу Миланы.
— Ну я вас победю! Или побежу?
— Победю… Побежду? Побе… — задумчиво произносит Гюзель.
— Одержать победу! — восклицает Милана, откидывая тяжёлые косы назад
— Можно ещё сказать: я буду побеждать… Начали!
Собачья жизнь
— Что ты хочешь дать этим детям?
— Воспоминания о чём-то хорошем. О том, что может быть по-другому… Что есть более человечное отношение.
— А почему ты думаешь, что здесь им плохо?
— Когда я только приехала, в школе не было мячей. Хотя их должны выделять каждый год. Не было спортплощадки, хотя район обещал её построить — в теплое время мы проводили занятия в поле рядом со школой. Директриса сказала обращаться в районную школу допобразования, на базе которой я преподаю. Меня несколько недель кормили обещаниями. В итоге я написала в соцсетях пост с просьбой о помощи: люди скинули денег, и я закупила мячи в Воронеже. Потом была ежегодная встреча с главой района. На ней я озвучила проблемы: нет инвентаря, приоритеты строительства спортплощадок расставлены неверно, то есть там, где они нужнее, их до сих пор нет. Например, в том же Боброве, площадка есть, а её ремонтировали в первую очередь. Сложно рассказать про футбол и баскетбол, когда демонстрировать не на чем. После этой встречи директриса вызвала на ковер: сказала, на рожон лучше не лезть, а такие встречи устраивают не для решения проблем, а ради галочки. А площадку построили в следующем году — маленькая победа.
— А дети здесь причем?
Гузя протирает лицо ладонями. Она смотрит в дальнюю точку маленькой кухни, подпирает подбородок рукой. Тёмные глаза выдают усталость и попытку сформулировать мысль.
— Вот я когда в Красное первый раз приехала, с детьми ещё не разговаривала. А завуч сказала: у нас с ними тяжело, они все турки, по-русски ни читать, ни писать не умеют. Каково же было мое удивление с началом занятий: говорить-то они умеют. Малая часть с акцентом, но свободно. Остальные очень хорошо говорят. И читать они могут, и писать. И всё у них получается не хуже, чем у русских.
— Почему же о них так сказали?
— Потому что дети не хотят разговаривать. Какой смысл произносить слова там, где никто не услышит?
Женщина вслух вспоминает об одной из первых ярких сцен: на уроке физкультуры дети случайно попали мячом по потолку, задев датчик пожарной сигнализации. Сирена завопила на всю школу, переполошив начальство. Директор вбежала в спортзал и долго кричала.
— «Бессовестные! Как вы так можете? Вы понимаете, что натворили? Да как у вас только совести на это хватает!» — тихим голосом имитировала она бывшую начальницу. — Она тогда плакала и кричала, кричала и плакала. Я не понимала, что с ней не так. Ну задели и задели, в спортзале потолки низкие. Мы потом позвонили пожарным, они нам по телефону объяснили, как датчик отключить. На следующий день приехали, поменяли. А я тогда чётко запомнила её гневные крики и слезы. Думала: как можно быть такой жестокой? И только потом поняла: эта женщина действительно испытывала какую-то обиду, она верила, что кто-то хочет ей навредить. Ей было больно, она от этой боли и кричала. Детям непросто с такими учителями. И директрисе оказалось непросто. Но этих криков я все равно не понимаю. И так во многом: постоянно делают из мухи слона.
Следующей весной директор скончалась.
— Но ведь что-то их привело к такому состоянию. Ты не пробовала понять, почему?
— Да ничего их не привело. Ничего, понимаешь? Ничего! — Гюзель перешла на повышенный тон, но в какой-то момент опустила глаза. — Может, жизнь их собачья. А может быть, они просто не умеют по-другому, не видели, как иначе. Я об их прошлом ничего не знаю.
— Ты считаешь себя лучше них?
— Я не лучше и не хуже. Просто другая. Но я точно не хочу стать как они, — произнесла Гюзель, промывая под струёй из крана побитые яблоки.
С ног на голову
В недавно отремонтированной школе новая учительница физкультуры во время перемен сидит с детьми на полу. На внеурочных занятиях с помощью фольги и диодов помогает мастерить светящиеся открытки. На рисовании потомки турков с помощью треугольников, кругов и квадратов нарисовали оленя. Однажды Гюзель проиграла детям спор и читала по листку четверостишие, стоя на руках и голове. Несколько раз она устраивала в одном из кабинетов киноклуб. Покупала попкорн, запускала на проекторе фильм, пока дети перетаскивали из спортзала маты, чтобы было комфортно сидеть на полу. Иногда на внеурочках дети сдвигают парты для работы в группах. Первое время подростки испытывали культурный шок — раньше сдвигать столы не позволялось, да никто и не предлагал.
— Последний киноклуб заставили прервать коллеги. Сказали, что маты приносить из спортзала нежелательно, да и школа уже закрывается, нас ждать никто не будет. Когда мы сдвигали парты, в класс ворвалась одна из учительниц — начала расспрашивать что мы такое устраиваем, да еще так громко. Представь себе стандартную парту — когда её перемещаешь, издаётся не так уж и много шума. У меня ощущение, будто они под дверями стояли и прислушивались к каждому шороху, чтобы застать нас с чем-то поличным. Ну не было там шума «на всю школу», не было. А в какой-то момент ко мне подошла одна из учительниц. Мол, «Гюзель Наиловна, ходят слухи, что вы перед детьми на голове стояли. Вы понимаете, что это создаёт школе не лучшую репутацию? Какой пример вы подаёте детям?» А какой пример я подаю? Я просто стояла на голове, я физрук, в конце концов!
— Для маленького села это ощутимые нововведения. Учителей это пугает.
— А почему они не пугаются, когда на детей орут? Ты бы слышала эти крики. «Не кричи, не бегай, не разговаривай, не смотри». Что плохого в беге на переменах? Что такого в громком голосе? Это же дети, им это свойственно. У меня ученики однажды залезли в сад одной из учительниц, своровали яблоки. Шалость. Только вот об этом узнали, собрали детей в учительской, выстроили вдоль стены и так орали на них! Я боялась войти.
— Если тебе так не нравится, как обращаются с детьми, почему ты за них не вступаешься?
Гюзель снова протирает ладонями уставшее лицо, начинает гладить храпящую у ног Боню и обращает взгляд в пол.
— Наверное, потому что страшно. Боюсь я. Я ведь первый год брыкалась, заступалась за них. Делала учителям замечания, объясняла, что крики, оскорбления, унижения — не выход. И вот тогда-то они за меня взялись: «пасли» у дверей, когда мы парты сдвигали. Посещали уроки, контролировали, чтобы всё было по КТП, а в любой школе уроки не всегда соответствуют плану, и это норма. Наступило какое-то тяжёлое напряжение.
— Но тебе не прокалывают колёса в машине, не портят твои вещи, не выбрасывают тетрадки в урны. Почему ты боишься всего лишь бумажного контроля? Что в этом страшного?
— Я раньше не сталкивалась с подобным. У меня на прошлых работах всегда был дружелюбный коллектив. Я говорила правду, со мной считались, меня никто у дверей не подстерегал. Я всегда росла и работала в благоприятной атмосфере. А с такой токсичностью столкнулась впервые. Слушаю, как они кричат на детей, а сама уже ничего сказать не могу. И не хочу. Не верю, что мои действия и слова со взрослыми к чему-то приведут.
— Тогда что ты можешь дать этим детям?
— Показать им другого взрослого. Я могу показать им, как можно услышать без крика, и что унижение — не выход. Показать, каким взрослым можно стать.
А физкультура где?
— Гриш, давай ты! Начинай, — с улыбкой выкрикивают четвероклассники в кругу.
Урок физкультуры начинается с ритуала: при выполнении упражнения каждый ученик по очереди рассказывает три позитивных факта, произошедших с ним за последние сутки.
В процессе ученики держатся за руки. Цель каждого — пропустить свое тело сквозь обруч и перекатить его по сплетённым запястьям к соседу. Тот повторяет упражнение и перечисляет факты.
Светловолосый Гриша изгибает плечи, чтобы пластиковый круг оказался на шее, а уже потом через него должна пролезть тоненькая нога.
Факт первый: вчера дедушка «пшикнул» ему в лицо водой. Мальчик решил «отомстить», подстерёг старика во дворе и плеснул в него из стакана. Оба громко смеялись.
Сквозь обруч прошла нога. На очереди вторая.
Факт второй: «Я научил дедушку искусству».
Круг на втором плече. Он скатывается по руке, повисает на запястье и под наклоном гришиного предплечья оказывается на руке соседа. Его очередь.
Факт третий: до приезда Гюзель с Гришей никто не дружил.
В группе из 14 человек тихий светловолосый парень был незаметен. На уроках физкультуры он не желал участвовать в командных играх и стоял в стороне: дети не пасовали ему, в команды Гриша попадал последним в силу исключения. Гюзель не настаивала: активность должна быть личным выбором ребенка.
Но в некомандной деятельности мальчик участвовал. Все началось с «ритуалов»: веселые истории про розыгрыши с дедушкой заставляли одноклассников смеяться. С каждым рассказанным фактом, с каждым занятием девятилетний мальчик становился в глазах окружающих личностью. Теперь первое слово младшеклассники предоставляют мальчику с большими глазами, густой шевелюрой и тонкими руками.

— А в чем здесь состоит физкультура, Гюзель?
— Физкультура — это не только про пасы, бег наперегонки и отжимания. Это про командообразование. Задание с обручем позволяет им чувствовать друг друга, совершать движения, в которых траектория круга зависит не только от тебя, но и от людей по обе стороны.
— А факты?
— А факты учат их разговаривать. Намного легче говорить о чём-то хорошем. Иногда я даю задание поведать просто про случившееся: почистил зубы, поспал. Без привязки к эмоциям. Но им пока сложно. Продолжают перечислять хорошее.
— Они научатся разговаривать с тобой?
— Со мной уже научились. Им надо говорить со всеми. Когда на них учительница кричала из-за этих яблок, они могли просто попросить прощения. Но не попросили. Потому что их не научили.
— Просить прощения?
— Просто говорить. Могли же сказать: «Вы нас простите, мы так больше не будем. А яблоки у вас очень вкусные». Я потом то же самое этой учительнице сказала: ну дайте вы им возможность попросить прощения. Ну не кричите на них, всё равно ведь не поймут.
— Так научи их тоже.
— Я одна не смогу. Тут взрослые люди, которые годами так живут. Меня не послушают: для такого нужна команда единомышленников.
— Но ведь с детьми смогла в одиночку.
— Дети готовы меняться. А люди, которым за 30 и более, не знавшие других способов, кроме криков и унижений, — им сложнее.
— Собачья жизнь?
— Не знаю. Честно говорю, не знаю.
Бережёного бог бережёт
Людмиле Алексеевне 51 год. Весной, в разгар пандемии она возглавила школу в Красном после внезапной кончины директора. В её распоряжении оказалось учреждение на 9 классов, около 40 учеников и 12 детсадовцев. 90% из них — месхетинцы, аварцы, армяне и грузины. По словам Людмилы, школьники-билингвы, помимо родного и русского, изъясняются ещё на английском и немецком. Во всяком случае, стихи в честь Дня матери на этих языках прочитать наизусть они могут.
Небольшое одноэтажное здание разделено на две зоны — для старшеклассников и начальной школы. В каждом классе от трёх до пяти человек. «Началка» самая многочисленная — 22 человека. Дети входят и выходят через разные двери, контактировать и переходить на «чужую» зону запрещено — последствия пандемии. За передвижением следят уборщицы, по человеку у входа. Они проверяют температуру, вносят фамилии и данные о состоянии («здоров») в журнал. На парте у входа — бутылки с антисептиками и маски, но их никто не берёт: персонал имеет свои, школьникам — по своему желанию. Взрослым вход разрешён в порядке исключения и в редких случаях: внутрь не могут войти даже родители.
— Я знаю о ковиде не понаслышке. В первую волну переболела вся семья. Одна я осталась, — женщина сплёвывает через левое плечо и трижды стучит костяшкой указательного пальца по потрескавшейся от времени столешнице. — Весной с началом пандемии все было строго: кто-то заезжает в село — его на две недели на изоляцию. Никого в школу не пускали.
— И люди действительно сидели по домам?
— У нас село маленькое, все друг про друга всё знают. Если ты нарушаешь изоляцию — с тобой все сельчане беседуют. Никто не хотел рисковать.
Людмила Алекссевна оглядывается по сторонам, и, убедившись, что никого нет рядом, стягивает маску: на лице проступила легкая, еле заметная испаринка. Говорить в ней тяжело, грудь от нехватки воздуха высоко поднимается и опускается.
— Мой муж и два моих зятя работают вахтовиками в Москве. Они ехали сюда в первую волну, уже с «ковидом». Перед их приездом на семейном совете старшая дочь сказала: «Мужчины едут ко мне, а я ухожу на самоизоляцию». Она месяц прожила с ними в доме и сама переболела. А двоих внуков и младшую дочь я забрала к себе. Я иначе не могла: на мне школа держалась. Близился июнь, надо было искать деньги на ремонт, приводить здание в порядок. Это сможет сделать только директор. Кто за меня будет до 12 часов искать и контролировать строителей, например?
В связи с переходом на дистант в школу требовалось провести оптоволокно, с родителями и детьми — налаживать новый режим: назначение и проверка домашнего задания, онлайн-расписание, профилактические беседы касательно вируса. Положение усложнялось отсутствием в селе интернета. Людмила Алексеевна указывает на окно: там связь достигает одного, реже — двух делений. В остальное время — полная изоляция, если не подключаться к школьному wi-fi.
В небольшом компьютерном классе есть четыре ноутбука, подвешенный меж двух окон плазменный экран, проекторная доска и три компьютера Samsung старого образца. Некогда белые корпусы мониторов пожелтели и стерлись от времени и бесконечных касаний нескольких поколений учащихся.
— Они все ещё работают?
— Да, но мы пытаемся их списать. Иначе новую технику не выделят.
— А в чём проблема?
— Надо самим найти специалиста, он должен приехать сюда, посмотреть, составить акт о негодности, потом этот акт рассматривают и одобряют в отделе образования. Скоро, кстати, нам выделят охранника, будет кому за всем этим присматривать.
— Так у вас село маленькое, кому воровать?..
— Я все равно трясусь. Кто знает? Бережёного бог бережёт.
В этом же компьютерном классе — изолятор. Об этом говорит распечатанная в чёрно-белых тонах табличка на входной двери. Согласно указанию федерального департамента, в каждой малокомплектной школе должно быть помещение для внезапных «симптомников».
— Для кого он, если детей с симптомами вы в школу не пускаете?
— А вдруг что? Говорю же, бережёного бог бережёт.
— Почему в компьютерном классе?
— Больше негде. Правильно это или нет, я не знаю, но школа маленькая — выделить отдельное помещение мы не можем. Ну мало ли, вдруг ребенку на уроке плохо станет. Но такого еще не было, тьфу-тьфу-тьфу…
Из легких женщины вырывается беззвучное тяжёлое дыхание. В этот момент я вижу лицо, полное усталости: бледная кожа, мешки под слегка покрасневшими глазами, потерянный, иногда блуждающий взгляд. Так же выглядит человек, который часто плачет.
— Сколько можно уже? — тихо произносит Людмила Алексеевна. — Перчатки, маски, руки, ноги. Не поможет: рано или поздно заболеешь.
— Как вы справляетесь?
— У меня выхода нет. Школе надо держаться.
— У вас есть завучи.
— Им тяжелее не меньше моего, забот хватает.
Послышался звук пришедшего сообщения. На экране смартфона отображается около 56 непрочитанных писем от родителей, департамента, отдела образования: что-то висит в отдельном чате девятого класса, что-то — в чате по питанию. На экране отображены группы в «Ватсапе»: районных директоров, детсада, учителей. На почтовый ящик в этот момент поступила очередная директива от РОНО: учителям нужно пройти новое психолого-педагогическое тестирование.
Отдельно для звонков и смс у директора есть кнопочный телефон — старая модель держит связь лучше.
Звонок на перемену прозвучал несколько минут назад. С того момента меня преследовало чёткое ощущение: что-то в этой школе не так. Но что — непонятно.
Взгляд падает на учительский стул — деревянный каркас обтянут тонкой потёртой тканью коричневого цвета. Такой раньше обшивали диваны советского образца. Металлические ножки стула давно окислились. Местами проступает краска неопределённого оттенка.
— Парты уже давным давно надо менять, стулья в ужасном состоянии. Я посмотрела: самый дешёвый стул стоит тысячу рублей, мы такое себе позволить не можем. Валентина Васильевна, учительница немецкого, пошла к продавцам мебели и попросила кусочки обрезков. Так потихоньку мебель приводит в порядок, — рассказала директор.
Мы проходим в учительскую — небольшую комнату, заставленную коричневыми учительскими столами. Начисто протёртые салфетками, но потёртые временем. У входа — компьютер, на экран которого транслируется все, что происходит в коридорах. В каждом крыле — по дежурному учителю в масках. Они медленно проходятся вдоль стен, держа руки скрещенными на груди. В этот момент я поняла, что не так: во время перемены в школе царила мертвая тишина.
— А где же дети?
— Сидят по классам.
— На перемене?
— Мы стараемся свести контакт к минимуму.
— Они же каждый день через фильтр проходят!
— Вы поймите, маски и дезинфекторы не всегда защищают. Вирус мутирует. А бережёного бог бережёт.
В школьной столовой дети стоят в очереди к умывальнику. Каждый ребенок намывает руки мылом, насухо протирает салфетками, обрабатывает физрастворм из диспенсера. Садятся завтракать. Перед ними булочки с маслом и сыром, чай. Кашу берут по желанию: у входа работница столовой накладывает горячую манку в тарелки.
— Ребят, а чего кашу-то не едите? — восклицает Людмила Алексеевна.
В её сторону обратились хмурые взгляды младшеклассников. Где-то из угла послышалось девчачье «Я взяла…»
— Как же у вас люди не бунтуют? Столько ограничений….
— Я с детьми каждый день разговариваю. Врать и бунтовать смысла нет. Вот, например, девочка не придёт в школу — мы доходим до дома, спрашиваем, почему не пришла? А она честно говорит: проспала.
— И вы считаете, это правильно?
— Осторожность превыше всего. Заболеет один — заболеют все. Да и дети прислушиваются: я с ними на равных говорю.
— И в чём же ваше равенство?
— В том, что все друг у друга на виду. И у всех друг перед другом ответственность. Село ведь маленькое, все всё знают. Правда всплывает. Тем более, мы с ними проводим большую часть дня: у нас ни библиотеки, ни дома культуры, ни клубов, ходить некуда. Они из школы возвращаются домой, уроки делают, ложатся спать. Поэтому все развлечения здесь: кружки, секции, мы на них имеем большое влияние.
— И никто не выступил против?
— Наше место — особенное. У нас из 350 жителей 80% — турки, авары, армяне и грузины. У них перед старшими всегда покорность, ослушание — явление редкое. Какой здесь бунт?
— Но вы же сами сказали, что вся эта предосторожность не спасет.
— А вы думаете, у нас тут только «ковид»? К нам каждую неделю приезжает СЭС, прокуратура, пожарная служба. Мы все время настороже: если что-то будет не так — родитель в школе, ребёнок с кашлем или количество прогуливающих без справок — штраф выпишут катастрофический. К нам проверка в любой день может нагрянуть без предупреждения.
В коридоре раздается треньканье стационарного телефона. Глаза директора расширяются, плечи вздрагивают и приподнимаются в напряжении. Корпус Людмилы Алексеевны слегка подается вперёд, взгляд устремляется на дверь. Она резко замолкает
— Меня, наверное… — шепчет женщина.
Несколько секунд мы в напряжённом молчании. В учительскую никто не вбегает.
— Фух, не меня, слава богу.

Тело Скворцовой резко размякает, плечи опускаются, она делает глубокий выдох и прижимает ладонь к груди.
— И как часто у вас проверки?
— По-разному. Но на неделе кто-то один раз точно да приедет. Проверяют маски, перчатки, документы по питанию, наличие посторонних. Мы ведь даже родителей в школу не пускаем. Они детей до входа доводят. Максимум — в предбаннике постоят. Честно говоря, тяжело. А у нас ещё и облучатели не на все помещения. Есть три стационарных, они установлены, их не снять. А есть переносные — две штуки. Вот мы их из комнаты в комнату таскаем. На каждый облучатель свой график включения и выключения, все это фиксируется в специальном журнале. Забывать нельзя, учёт строгий. Вот и носимся с аппаратами. На регулярную дезинфекцию обращают внимание: раствором обрабатываем все вплоть до ручек дверей. Каждая пятница — генеральная уборка. У нас две уборщицы вымывают всю школу. И за это они получают по 10 тысяч в месяц. У учителей зарплата примерно 15 тысяч.
Врачебная помощь в Красном оказывается по графику: в селе есть медпункт, но нет фельдшера, дважды в неделю медработник приезжает из соседнего посёлка. О заболевших детях в школу сообщают родители, эту информацию каждый день по телефону передают фельдшеру в рамках планового мониторинга. Так в регионе отслеживают ситуацию касательно эпидемии. В день приезда медработник посещает больных на дому. Порог школы не переступает. Так, как раньше, уже не будет.
Людмила Алексеевна призналась, что в тёплое время года родительские собрания проводились на улице. Сейчас контакт сведён к сообщениям в чате и телефонным звонкам. Нужная информация дублируется в группу в «ВК» и «Одноклассниках», но школьный вай-фай фильтрует соцсети, и доступ к ним нерегулярен. Скворцова буквально хватается за голову и раскачивается, заявляя, что в этом году школу обязали перейти на работу в в единой цифровой платформе: сайт с банком заданий на каждый класс, в котором дети самостоятельно проходят школьную программу.
— Я им говорю: ну нет у родителей интернета, где я вам эту платформу поставлю? А у нас в школе на этот сайт фильтр тоже стоит! Доходим до определённого уровня — и не показывает! А директива есть, что надо. Надо! И как это? Еще до двадцать третьего года сверху постановили сделать «Точку роста». А где мне помещение для этого взять? У нас столько комнат нет, у меня изолятор в компьютерном классе!
Толком Скворцова родных не видела полгода: нужно было входить в новую должность, решать проблемы с дистантом и искать деньги на ремонт школы. По её словам, было не до того, чтобы входить в положение каждого ученика: год проходил без выходных, от проверок, поступающих из федерального центра директив и обязательных к прохождению онлайн-курсов отбоя не было. Наступило время для летнего ремонта. Родители сдавали деньги, но участвовать в работах не могли: учителя красили и шпаклевали своими силами. На тот момент в школе трудилось восемь человек.
— Сердце разрывалось. У мужа из-за коронавируса ухудшилось состояние, его положили в больницу. А я даже не знала, что с ним. Боялась: вдруг ему тяжело, он умирает, а от меня этот скрывают. А в канун первого сентября он попадает в аварию. Работал в Москве водителем катка, в него врезалась фура. Мне тоже долго об этом не говорили, а после зятья привезли сюда. Все тело загипсовано, он не мог сделать сам ничего: сломана ключица, раздроблено колено, до сих пор ходит с шурупами в ноге. У меня были и работа, и уход за ним, и поездки в больницу на осмотры и перевязки. Год дался тяжело. Хотя только на год и оставалась работать, а вышло вон как.
— Зачем вам это все?
— Я здесь родилась. Мой муж, городской человек, тридцать лет назад ради меня сюда переехал из Тулы. И покойный директор однажды попросила остаться: иначе на ком еще школа продержится? Рухнет административный костяк — рухнет обучение.
Вегетарианство и бессмысленная гонка
В начале первого года Гюзель каждый день видела двух пасущихся рядом со школой телят. Тогда она в шутку называла их своими учениками, махала рукой, иногда подходила погладить против мягкой шерсти. Телята со временем привыкли к новому человеку.
Спустя несколько месяцев она застала одного бычка. Тушу второго разделали и подвесили на деревянные каркасы. Гюзель поразило, что телёнка убивали и обрабатывали прямо рядом с живым собратом.
— Я тогда хотела попросить прощения. У этих бычков за то, что с ними так поступают. У детей за то, что и в такой ситуации они не видят, как можно иначе. Нормально, что в деревнях режут скот, но ведь можно это делать по-другому, более гуманно. Чтобы хотя бы живые не видели, что их ждёт.
Спустя время Гюзель отказалась от мяса.
— Каким бы хорошим учитель не был, есть общество, в котором живут эти дети, — произносит женщина и показывает мне видео.
На осенней поляне её ученики сидят в кругу, рядом Гюзель хочет озвучить очередное задание, но отвлекается на скачущую вокруг неё дворняжку. Животное пытается потереться об ноги физрука, вертится вокруг своей оси, желая поймать собственный хвост. На возглас Гузи сквозь смех «Нельзя!» лает и опирается лапами об её колени. Дети громко смеются, хотят поймать мечущегося в эйфории пса, некоторые разбегаются и падают на землю, приглашая животное в объятия, некоторые отпрыгивают и смеются громче. Гюзель присаживается на корточки, животное примостилось рядом, дети образовали круг. Теперь собака — часть группы.
Этот чудесный пёс появился ниоткуда 24 сентября. По словам Андержановой, «был зашуганный», и она с детьми училась налаживать с ним контакт: просила не делать резких движений, не замахиваться, и за неделю его «отогрели». Он полюбил школу, всегда присутствовал на её уроках, дети играли с ним, снимали с тела клещей, надели ошейник от паразитов, кормили обедами. Он стал их Малышом.
— Его больше нет, — Гузя тихо выругалась. — Заманили едой и застрелили. Он кому-то помешал. О том, что его хотят убить, мне написал перед выходными один из учеников. Я сказала: к понедельнику что-нибудь решу. Не успела. На следующий день Малыша убили. До сих пор ком в горле, обида, злость. Я так надеялась, что приеду, что это окажется всего лишь слухом, что мальчик неправильно всё понял… А это правда. Я стараюсь никого не осуждать, но не получается.
Гузя медленно и аккуратно нарезает яблоки, отправляя кусочки с желтыми прожилками в рот. Бульдог, устроившийся в ногах, втягивает широкими ноздрями разносящийся по кухне фруктовый аромат. Животное с аллергией на животный белок не прочь полакомиться клетчаткой.
— Ты могла бы остаться в этой школе.
— Одна я ничего не изменю. И как только отработаю два года — уеду.
— А дети?
— А им мне нужно дать все, что я могу. Пусть они любят своё село, любят это место — любить нужно. Но уезжать им надо. Чтобы потом приехать и что-то поменять.
— А ты?
— Пойду работать в демократичную школу. Скорее всего, частную. Или плотником устроюсь: с деревом люблю работать.
Тёмным морозным утром Гузя нарезает сосиски и складывает их в пакет. Потом натягивает верхнюю одежду и спускается на улицу. Пока машина разогревается, женщина вываливает лакомство на пенопластовый поддон, к которому подбегает бездомный котёнок, предвкушающий завтрак на свежем воздухе.
— Ты не жалеешь?
— В Москве я десять лет участвовала в какой-то бессмысленной гонке: работала, впахивала, кредиты на ремонт квартиры, кредиты на машину, какие-то «айфоны», вечеринки, пьяные посиделки, в которых вместо разговоров — сплетни и споры о том, молодец ли Путин. Вот бежала я эти десять лет — а толку? Что осталось? А здесь я чувствую, что делаю что-то важное. Что-то хорошее после меня останется. Поэтому нет, не жалею.
Я проработала в школе полтора года. Этого времени хватило, чтобы начать воспринимать антигуманность образовательной системы как нечто обыденное и забыть о течении времени. Тем временем Гюзель Наиловна, учитель физкультуры в поселке Красный, каждое утро отсчитывает в мысленном календаре дни до окончания учебного года. Потому что для неё антигуманность так и не стала привычным явлением.
Иллюстрации: Аня Катамари









Комментарии
Отправить комментарий