Как закалялся стайл и менялись представления о моде
Эволюция отечественного мужского глянца: от выкроек к рецептам алкогольных коктейлей, а оттуда — к рыболовству. Журнал "Esquire" прошерстил Ленинку на предмет модных журналов для мужчин из прошлого. И выяснил, что в СССР не только с сексом было туго.

1878

«Мужские парижские гардеробы»
Еще не журнал, а скорее четырехполосная газета, выходившая восемь раз в год. В первом же номере редакция посыпала голову пеплом: «Просят гг. подписчиков извинения, что новый этот журнал вообще пока не своевременно выходит и теперь еще не так полон, как следовало быть, надеясь, однако, что впоследствии он будет постепенно усовершенствоваться». Впрочем, не исправилась: следующие номера не особо отличались от пилотного. Контент незатейливый: инструкции к выкройкам и, собственно, сами выкройки. В первом номере, например, предлагалось сшить полупарадный и выходной костюмы.


1891
«Новейшие моды
мужских платьев»
Практически брат-близнец предыдущего: те же четыре полосы типографской бумаги, бонус — цветной плакат-иллюстрация с тогдашними модниками и модницами. Редакция предлагала поработать не только руками, но и мозгами: первую полосу открывала колонка о последних трендах из Парижа. «Что касается пиджака, приобретшего вполне заслуженное преимущество домашнего платья, то его для осени и зимы будут носить большею частью двубортным, с умеренной длины реверами».
А вот что настоятельно рекомендовали читателям на сезон fall—winter 1891:
«Зимние пальто в этом сезоне будут носить преимущественно двубортные, с широкими отворотами, пуговицы не следует размещать густо».
1910
«Дэнди (журнал
искусства моды)»
Пожалуй, первый глянцевый журнал для мужчин в современном понимании. Здесь впервые сошлись мода, рассуждения о женщинах, высоколобое чтиво и культурные ликбезы. Так, первый номер начинался с эссе о феминизме (да-да, хайповая тема волновала глянец и в начале прошлого века): «Настоящая дама никогда не бывает феминисткой. Зачем ей бороться за права женщин, когда она обладает всеми привилегиями! Еще более чуждо ей соперничество с мужчиной. Для нее совершенно бесспорен тот факт, что она сделана из другого, более тонкого материала, чем грубый мужчина. Дама во всем превосходит его за исключением некоторых вещей, не заслуживающих внимания». Затем завсегдатай художественных галерей разбирал тогдашний французский совриск. Сердце номера — первая часть долгоиграющего программного эссе о дендизме и его предводителе Джордже Брайане Браммеле (эдаком лондонском Игоре Григорьеве времен главредства в «ОМ»). Затем редакторы снова обращались к женщинам, на этот раз обсуждая гардероб светской леди в рубрике «Разговоры с дамой»: «серьезное, скромное платье — для утренних визитов, шелковые или бархатные платья — для официальных — требуют особенной изысканности и художественности покроя». Следом шел, пожалуй, первый в российском глянце ликбез — American Drinks — о диве дивном — профессии бармена, рецепты заморских коктейлей, джин-тоника и мартини, прилагались в конце.
Со второго номера в «Дэнди» появились репортажи: о Малом театре, например, в 1910 году писали, как сейчас о «Гоголь-центре» — восторженно, с излишним экстазом. Добавилась и рубрика «Рассказы» — с самыми современными художественными произведениями. Также существовал аналог рубрики Esquire «Письма читателей» — «Почтовый ящик». К сожалению, «Дэнди» продержался всего три номера и по неизвестным причинам почил.



1912
«Gentleman
и моды»
Как и «Дэнди», максимально приближен к современному пониманию «модного мужского журнала». В письме редактора написано: «Наш журнал — для публики». Публику, судя по контенту, привлекали колонки писателей, публицистов уровня Андрея Белого и художников о моде. Вот что писал сам Белый: «Из всех известных мне мод наш костюм — наименее эстетический. И моды наши — безобразные моды. Но изменить костюм пока невозможно — мы заслужили его: какова внешность, такова и суть; вся внешняя оболочка современного человека есть эмблема уродств, отпечатлевающих душу его». На одной из первых полос — эссе о красоте и уродстве, об искусстве одеваться с понятными правилами: «светлые цвета толстят», «темные тона при гладкой материи скрадывают полноту», «мужчинам низкого роста рекомендуем носить низкие фетры и котелки».
Дальше шел размашистый раздел «Тренды», в первом номере — с подборкой жилетов. Также имелась полоса со спортивными костюмами, которые современному джентльмену показались бы отнюдь не спортивными, а деловыми. Не обделили вниманием и исподнее: «в реформе мужского белья замечается большое движение», «перчатки — имитация кожи: сетчатые, шелковые и фильдекосовые». Фэшн-съемки заменяли иллюстрации с прорисованными костюмами из главного мужского магазина страны «Н. Михеева», расположенного на Невском, 32-34. Оставшиеся страницы отвели под рекламу бутиков, ресторанов и шампанского.


1923
«Крысодав»

Образцовый сатирический журнал, каких в СССР было вдоволь. Выходил на дешевой хрустящей бумаге, приличным тиражом — 16 тысяч экземпляров. «Крысодав» активно и беспощадно боролся с буржуазией и врагами молодого Советского государства — иностранцами, эмигрантами, нэпманами и прочими «крысами». Жег глаголом и карикатурами. Так, в первом номере «Крысодав» распекает нэпманов в остроумном комиксе. Достается также и шпионам, попам, генералам и банкирам — им «отрезают» головы гигантскими ножницами на одной из иллюстраций. На страницах появляется и сам Крысодав — гигантский рыжий кот, который, как супергерой, расправляется с врагами.


1923
«Вестник моды»

Двенадцатистраничный миниатюрный лукбук (не больше iPhone 7) актуальной моды. Изначально был женским изданием, входил в ИД «Журнал для женщин». К 1923 году сменил пол, превратившись в альбом самых актуальных мужских костюмов. Тираж — 10 000 экземпляров. Цена — 15 рублей.
1924
«Смена»
Самый массовый молодежный журнал Страны Советов. Первый номер вышел в январе 1924 года с футуристической обложкой кисти Родченко, иллюстрирующей светлое коммунистическое будущее. Издавал журнал орган ЦК — РКСМ (Российский коммунистический союз молодежи). Тогдашних тинейджеров интересовали не сплетни и музыкальные новинки, а обстоятельные лонгриды. Так, в пилотном номере поместились эссе о безработице, обзор технических новинок вроде электроинкубатора, обширные воспоминания о Кровавом воскресенье. Открывала журнал и вовсе огромная глава детективного романа «Дело Эрбэ и Ко». Помимо локальных проблем затрагивалась мировая повестка: например, приводилась сводка с выборов в британский парламент, разбирали секретные испытания безмоторных немецких самолетов. Центральное место в первой «Смене» отводилось подробному рассказу о Великом северном пути, который сейчас легко можно представить и в Esquire. Также именно «Смена» придумала рубрику «Книжная витрина» с обзором новинок, которая сегодня есть в каждом уважающем себя издании — от «Медузы» до «Афиши Daily».
Вторая «Смена», в феврале 1924 года, вышла траурной — на смерть Ильича. Обложку снова оформил Александр Родченко: на красном прямоугольнике, обрамленном траурными лентами, под портретом вождя чернел вынос: «Жив в сердцах рабочей молодежи с его советами вперед на борьбу за коммунизм». Номер открывался некрологом, написанным Надеждой Крупской, далее следовал подробнейший, подкрепленный фотографиями репортаж о том, как тело Ленина доставляли из Горок в Колонный зал Дома союзов. Следом давалась ретроспектива жизненного пути Владимира Ильича, воспоминания о первых днях революции, эссе об отношениях Ленина и крестьян. Несмотря на траурную повестку, напечатали вторую главу детектива «Дело Эрбэ и Ко», далее — расследование убийства комсомольца Каминского, сводки из затопленной Италии, программный текст «Лампочка Ильича» о необходимости электрификации России. В конце был помещен дневник Клуба молодых ленинцев Красной Пресни.
Журнал начинался с тиража 25 000 экземпляров и к концу 1980-х дорос до рекордной цифры — 3,5 миллиона экземпляров. «Смена» не закончилась — журнал издается до сих пор, ориентируется на аудиторию, «выбирающую интеллектуальное чтение».



Мужские модные журналы, как ни парадоксально, выросли из женских. Еще в 1791 году на страницах «Магазина английских, французских и немецких новых мод» между актуальными фасонами женских платьев нет-нет да проскакивали иллюстрации костюма современного джентльмена. Но вообще первые мужские журналы были ориентированы не на читателей, а на портных. Такие издания пестрели выкройками и инструкциями по пошиву рубашек. Ситуация изменилась к началу ХХ века с появлением первого полноценного мужского глянца.

1928
«Мужские моды»
Газетный разворот плюс вклейка с гравюрами мужских мод. Причем модели больше похожи на представителей буржуазии, чем пролетариата. На передовице — обзор мужского платья fall—winter и выкройки (двубортный пиджак, жилет, брюки, пальто). «Плечи делаются нормальной ширины, что придает фигуре красивую внешность». Конкретные указания: «При вшивании воротника в горловину не следует его „стойку“ оттягивать, а ее еще нужно несколько посадить по горловине, которая при разутюжке шва оттягивается, отчего воротник получается как бы стоячий».
«Мужские моды» можно считать последним профильным изданием, выходившим в советское время. Дальше печать как будто специально игнорировала мужчин: выходили разномастные газеты, бюллетени и журналы — и про машиностроение, и про жизнь слепых, и бесчисленное количество женских журналов. А мужские не печатались в принципе.
«Мода в СССР считалась в основном женским делом — таковы были общественные представления. Дизайнеры и руководители легкой промышленности приложили немало усилий, чтобы убедить граждан в необходимости детской и мужской моды. Но мужских журналов как таковых отдельно не существовало», — подтверждает историк, заместитель директора ИРИ РАН, профессор РГГУ и РАНХиГС Сергей Журавлев.
В рассвет СССР мужчины довольствовались узкопрофильными журналами: общественно-политическими, юмористическими, литературно-художественными, изданиями о путешествиях, темы которых входили в круг их интересов.

1946
«Вокруг света»

Самый знаменитый отечественный журнал о путешествиях издается с 1861 года, но его расцвет пришелся на послевоенное время. В 1946-м свет увидела обновленная версия, которая выпускалась при непосредственном участии ЦК ВЛКСМ. Главное отличие от других трэвел-журналов того времени — эффектная цветная обложка. Так, на кавере первого после реновации номера изображен самолет, планирующий прямо над Красной площадью. Также в черно-белом «Вокруг света» имелись цветные вставки, что тоже редкость для полиграфического дизайна тех лет. Открывает журнал обращение видного прозаика и поэта Николая Тихонова: «Это не так просто — вести такой журнал, чтобы он был на высоте требований взыскательного читателя. Но будем надеяться, что при помощи большого коллектива самых разнообразных авторов журнал достигнет своей цели. Мир, о котором хочет говорить журнал, широк. Пусть же и журнал будет широк, красочен и разнообразен, как мир». Затем шел раздел, который в современных изданиях называется «Светская хроника», только вместо знаменитостей шампанское пили гости Всемирной конференции молодежи. Как и всякий порядочный литературно-художественный журнал, «Вокруг света» не избегал рассказов современных авторов. Ключевой репортаж первого номера рассказывал о жизни в побежденной Японии — такой текст можно спокойно представить на «Медузе» или BBC.


1960

«Рыбоводство
и рыболовство»
Научно-производственный и рыболовно-спортивный журнал Министерства сельского хозяйства СССР. На первой обложке позировал любитель подводной ловли Кутын Дяксул — житель Хабаровского края. Он одет в стеганую фуфайку — практически такие же сейчас расходятся на ура в Leform. Журнал вполне логично напичкан заумными статьями о важности рыболовства и рыбоводства для экономики страны. Вот эссе о развитии прудовых хозяйств: «Большой размах рыбоводные работы получат в Московской области. Предполагается построить 3 тысячи га прудов...» Вот отчет о годе работы председателя колхоза имени Владимира Ильича Ленинградского района Московской области: «Надо смелее вводить рыбоводство как равноправную отрасль в производственные планы колхозов наряду с выращиванием скота и птицы». Тут же — научные статьи типа «Рыба и кислород», пропагандистские призывы к освоению водной целины. Плакат-вкладка с фотографиями рыб (очевидно, его предлагалось вешать на стену), репортаж о ловле рыбы на Карельском перешейке, который, впрочем, до сих пор актуален. Рассказ о Чехове-рыболове к столетию Антона Павловича, стихи о рыбалке: «Что сидеть, когда не ловится? Но рыбацкая душа верит, что поймать сподобится королевского ерша».
ЗАПИСАЛИ ТАТЬЯНА СТОЛЯР И ОЛЬГА СТЕПАНЯН
«ВЕЩЬ — ЭТО ТОВАРИЩ» : КАК У РОССИЯН МЕНЯЛИСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МОДЕ
От подшитых юбок и заплаток до потребительского отношения к вещи. Журнал "Royal Cheese" — о трансформациях представлений о моде у россиян прошлого и настоящего.
Мода подобна флюгеру. Мнения о ней меняются каждые десять лет, если не каждый год. Но раньше это было не так. Мир был более законсервирован, а каждое общество следовало собственным тенденциям. Возьмем для примера СССР: там само отношение к вещи было другим. Как это повлияло на представления о моде среди миллениалов? Почему поколениями россияне штопали дырявые носки, вместо того чтобы выкинуть их, как это делают зумеры? Royal Cheese — о российских трансформациях представлений о моде и отношения к вещам.
СОВЕТСКИЙ ШОППИНГ В ПАРИЖЕ
В 1925 году советский художник Александр Родченко в первый и единственный раз в своей жизни оказался за границей. Не архитектура Парижа, не местный культурный уклад, а именно впечатления от шоппинга составили основной пласт впечатлений выходца из СССР в то время. Но что же его удивило? Об этом в своей статье «К эстетике нерыночного предмета» написала арт-критик Екатерина Деготь.
Сам Родченко представлял собой идеал человека в понимании советского общества: честный, правдивый, дружественный, скромный и не озабоченный своим внешним видом. Элемент одежды в понимании жителя СССР — это такой же товарищ, как и он. Вещь сама по себе осмыслена, равна человеку. По этой причине старшее поколение наделяет свои вещи контекстом. «Это не просто вещь, это моя вещь, в которую я вложила труд и время». Ввиду острого дефицита товаров и такого особого отношения к вещи пост-советские люди десятилетиями хранили давно изжившие свой век объекты. Что касается Родченко, в его случае столкнулись два мировоззрения: капитализм и социализм. В первом случае это норма, когда стоимость вещи превалирует над ее потребительскими свойствами. В стране Советов ситуация была обратной. Тут вещь стоила дорого, но отрабатывала каждый свой рубль и немного больше. Родченко в Париже писал о вещах так:
«Здесь дешево отчасти потому, что плохой материал, ибо им важно дешево купить, модно ходить, а как новая мода — опять новое покупать».
Этот авангардист, вносивший свежее дыхание в мир искусства, в Париже 1925 года стал явным консерватором. Первое, что он увидел в столице Франции, — это продавца порнографических открыток. Спустя несколько дней он как-то зашел в местное кабаре и был неприятно удивлен доступностью французских женщин: «Подходят, танцуют, уводят любую». По итогу местных дам он почитал за проституток. Почему произошел этот конфликт внутри новатора и художника Родченко? При чем тут мода? Дело в том, что искусство в его понимании подчинено высшей цели, в то время как наряды, которые носят французские женщины, — это яркая упаковка, преследующая цель продать себя. В то время как идеальная вещь в понимании Родченко, да и любого советского гражданина, — это отдельная, «живая» сущность, квинтэссенция труда и полезности. Одежда — это товарищ.
«Все это чужое и легкое, как будто из бумаги…»
МИЛЛЕНИАЛЫ: ОТ КИТАЙЩИНЫ ДО БРЮК LEVI’S
Делить моду на поколения — это условность. Понятно, что тот же зумер может одеваться как бумер, потому что захотел так. А когда идет речь о маркетинге, такие деления производятся с точки зрения большинства. Однако отрицать, что в детстве миллениалы штопали носки, рубашки, куртки и прочее по собственной инициативе, — не совсем объективно. Через родителей еще юные «игреки» унаследовали советское отношение к моде и вещам. К примеру, раньше те же лифчики шились под узкий спектр размеров. Чтобы подогнать одежду под себя, жителю советского общества нужно было вложить в нее свое время и труд. По итогу ценность вещи возрастала, а сам лифчик носился до дыр, которые штопались заплатками.
По этой причине миллениалы в детстве ходили в сомнительной (эстетически) одежде, при этом донашивая каждую свою шмотку до критического состояния, а модный приговор им выносила продавщица на рынке: «Ой, посмотрите, как вам идет эта футболочка/куртка/шапка!» В это время он мог мысленно согласиться и купить вещь, перебирая голыми ногами по наскоро стеленной картонке.
Уже позже миллениал отделался от социалистического восприятия вещи. С возрастом подобная «трясучка» сохранилась лишь по отношению к действительно дорогим предметам. Теперь одежда — это самовыражение, погоня за лайками и порыв вдохновения. В качестве модного ориентира выбираются инфлюенсеры с миллионной аудиторией, и тот факт, что эстафета популярности передается от одного к другому, целиком меняет повестку трендов в настоящем моменте. Носить одну и ту же вещь постоянно — значит быть либо аскетом, либо безжалостно отставшим от моды.
ЗУМЕР: СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К МОДЕ
Другой разговор — зумер. Это поколение, которое лишь слегка зацепило советское восприятие вещи. Сегодня вместо поиска швейного набора, чтобы заштопать дырявый носок, зумер наверняка сразу определит испорченный предмет в мусор или сделает из него пижаму, — проще купить что-то новое, ведь одежда уже не стоит так дорого. К тому же препятствием на пути к покупке нового элемента гардероба не станет и отсутствие нужного размера: современный рынок учитывает почти каждого потребителя с его уникальными антропометрическими запросами.
В этом смысле у выросших миллениалов и зумеров очень много общего. Оба поколения будут одинаково «трястись» за вещь, которая досталась дорого. При этом провести четкое деление по стилям моды, свойственным отдельному поколению, сейчас невозможно. Все смешалось. Все одно и по-разному.
БУМЕРЫ, МИЛЛЕНИАЛЫ И ЗУМЕРЫ — О МОДЕ
Мы спросили мнения о вещах у трех поколений. Почитай и сложи собственное представление о том, как относились к одежде люди в разное время. Вот что говорит бумер-пенсионер Тамара (1955):
«К вещам относились бережно. Много денег не было: что родители купили, то и носили. У нас не спрашивали. С платьев шила юбки. Кофты давала носить младшим сестрам — донашивали.
Сейчас люблю качественную одежду, желательно фирменную — долго носится. Стараюсь мало вещей хранить, но чтобы хорошие были. Раньше все шили модистки (специалистки по женским головным уборам — прим. ред.), швеи».
Вот что об этом пишет миллениал Марина:
«Раньше, в советское время, одежды было мало. Выбора не было никакого. Вещи имели огромное значение. Сейчас изменилось отношение к ним: меньше, но лучше. Я ценю хорошую вещь, лучше куплю одну дорогую, чем десять таких же, но подешевле. Качество меня должно устраивать. Мне нравится хорошо одеваться.
Еще такое бывает: если вещь, которая мне нравится, испортится — я расстроюсь, но ненадолго. Вот если кот расцарапает мой новый диван — я его прибью. Шучу, конечно. А в советское время, чтобы пойти на дискотеку, я крала вещи у своей тети. Когда она прознала, не разговаривала со мной целый год».
Современной молодежи приписывают изрядно потребительское отношение к одежде. Однако это не всегда так. Вот что пишет о своем отношении к вещам 15-летний зумер по имени Артак:
«Одежда — важный социальный атрибут, но не стоит судить по ней человека. Зачастую я больше ношу то, что мне нравится, и то, что я считаю стильным, а не что удобно. Бренд для меня не особо важен: можно хорошо одеваться, используя секонды, масс-маркеты и street-wear. Лично я подбираю гардероб, наблюдая за тем, что сейчас модно и стильно. Из данного списка выбираю то, что нравится мне и что считаю стильным я. Если ничего не нахожу, то подбираю на свой вкус, не обращая внимания на моду».
16-летний зумер Алим отчасти подтверждает, что вещь должна быть удобной. И неважно, секонд это или брендовый магазин:
«Бренд одежды для меня абсолютно неважен. Я даже не шарю, никогда за этим не гонялся. Так, в целом если брать, то для меня важно в одежде несколько критериев: цена, удобство, красота. Превалирует, конечно, удобство. На данный момент это самое главное. Если говорить абстрактно, то лично я обожаю строгие костюмы. Это мое мнение — я не знаю, как у моих ровесников. У нас в городе вообще распространен больше спортивный стиль, за собой подростки следят не особо рьяно. Недавно приехал парень из Питера, и разница прям была заметна: он был одет шикарно — стильно, со вкусом. Все-таки город и среда имеют решающее значение».
Часто поколения считают, что их представления о моде самые правильные. Это не так, ведь в нынешнем обществе потребления понятия о ней подобны флюгеру. В этом смысле цитата советского гражданина Родченко подчеркивает наше отношение к вещи: «Новая мода — новое покупать». Но современности подходит такая фраза: «Что больше соответствует нашим представлениям о моде — то и покупать». Каждый сам выбирает свой флюгер, ведь их в нынешнем обществе великое множество. На примере этой статьи ты сумел в этом убедиться.









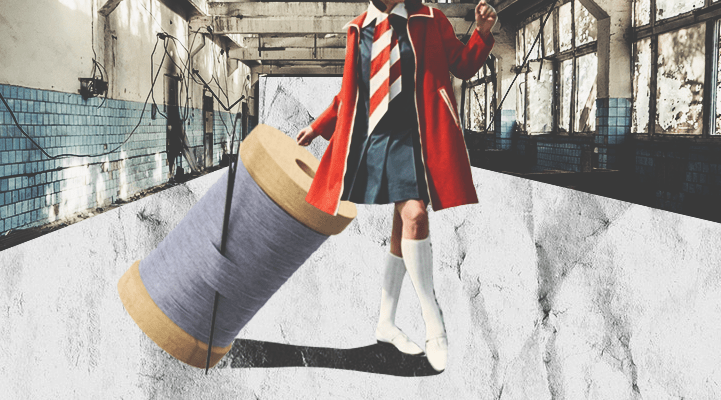



Комментарии
Маяковский когда стал знаменитым стал модником. Одежды у него было немного но он старался подбирать.
Но это в 1920-е года.
А в 1950-е года стал модником Никита Хрущев. И он на тему моды, на тему идет неидет высказывался.
Как сказал на эту тему музыкальный журналист Артемий Троицкий - 'с секосом в СССР как раз было все хорошо, поскольку ночных клубов небыло....а что еще и делать?...только секосом по домам и заниматься..."
Что еще мог выдавить из себя обиженный и изгнанный престарелый поц Троицкий....
По всему дельфятнику сопли размазывал...
Отправить комментарий