Прощай, немытая... Европа. "«Суверенитет духа»" (книга) + док. фильм
В 2007 г. вышла книга известного философа и политолога Олега Матвейчева «Суверенитет духа», в которой автор достаточно резко, но при этом справедливо подвергает критике западноевропейские культуру, ценности, образ жизни, систему категорий, которые оккупировали весь мир и выдают себя за феномены общечеловеческие. Однако, считает автор, сегодня Европа исчерпала себя, и поэтому требуется созидание новых, альтернативных ценностей, и Россия в этом процессе духовного обновления еще может успеть занять ведущее место – благо что для этого имеются все предпосылки. Стоит заметить, что в книге автор отводит целую главу и такой животрепещущей теме в Эстонии, как русофобия. Кому интересно, качаем книгу в формате "doc" ЗДЕСЬ.

Но нам бы хотелось обратить внимание читателя на первую статью упомянутой книги, которая называется «Прощай, немытая... Европа», в которой О. Матвейчев показывает, что европейцы, которые сегодня считаются «эталоном» культурности и цивилизованности, которые сегодня учат Россию этикету и культуре, в действительности стали «культурными» совсем недавно, в то время как славяне были таковыми издревле. Например, в области общественной и индивидуальной гигиены. Автор убедительно показывает, что гигиенический феномен «чистоты» для определения культуры и цивилизации оказывается антропологически фундаментальным.
Появление «чистоплотности» в Западной Европе О. Матвейчев связывает с влиянием русских, которые в XIX в. завезли туда походные бани, которые, правда, приживались целое столетие, прежде чем стали повседневной нормой. Как нам представляется, в данном случае автор, рассматривая проблему, упускает важный момент: почему чистота начинает приживаться в Европе именно в XIX–XX вв., а не раньше? Ведь о русских, турецких и финно-угорских банях было известно в Европе еще со времен крестовых походов? Если еще 150–200 лет назад Европа жила «по уши в грязи», то откуда у современных европейцев возникло чувство отвращения к нечистотам, испражнениям и вони от них? Думается, что культурологический подход, который использует О. Матвейчев, не может полностью ответить на поставленный вопрос. В предлагаемых заметках мы попытаемся объяснить нынешнюю чистоплотность европейцев с помощью материалистического понимания истории.
Согласно марксистской теории, все составляющие человеческой психики, будь то мысли или эмоции, так или иначе имеют своим основанием бытие, а не какие-то трансцендентные источники. Основную же часть бытийной непосредственности человеческого присутствия составляет повседневность. Феномен отвращения-к-испражнениям, являющийся феноменом чувственным и эмоциональным, в своем конституировании в силу этого должен быть объяснен из повседневности и ее динамики в рамках исторического изменения способов производства.
Основой такой радикальной историчности всей тотальности социального универсума является praxis, то есть способность человеческой деятельности преобразовывать наличную действительность в нечто ранее не существовавшее, новое. Изменение бытийных условий в результате практического преобразования налично данного приводит к тому, что новые, созданные в результате преобразования бытийные условия детерминируют, в свою очередь, взаимное, обратное изменение человека и человеческого сознания. Изменяя объективный мир наличного присутствия, мы тем самым изменяем самих себя, то есть изменение объекта субъектом в конце концов приводит к изменению субъекта (посредством отражения, рефлексии) преобразованным объектом.
Внутренним бытийным механизмом такой диалектики субъекта и объекта является преобразование предметного универсума в рамках повседневного бытия. Именно в повседневных структурах человеческого присутствия развертывается историчность общественного бытия; затем она экстраполируется на образ жизни индивидов, что далее детерминирует изменения в способе производства и т. д. Если схематично представить этот процесс, то он может выглядеть так: (1) небольшие изменения в повседневном орудовании подручными вещами, детерминированные стремлением индивидов к экономии действия, детерминируют (2) изменения в образе жизни сначала некоторой части населения; (3) затем происходит экстраполяция новшеств на основные отрасли хозяйства, что в свою очередь формирует новые отношения между людьми в процессе их наличного бытия; (4) эти новые отношения вступают в противоречие со старой системой, что так или иначе приводит к революционному перевороту во всей системе социального универсума; (5) революция дает толчок к свободному распространению новых принципов существования теперь уже на все общество в целом; а это влечет за собой (6) изменение образа жизни всех слоев населения (с естественным сохранением разного рода «пережитков прошлого» в виде того или иного национального колорита), что далее влечет за собой (7) проникновение новых отношений в повседневность и их седиментацию там. Таким образом, процессы преобразования социального универсума, как мы видим, начинаются в повседневности и в ней завершают свой путь.
В силу этого методологически наше исследование должно в исторической ретроспективе: (1) установить детерминационную связь между способом производства и образом жизни; (2) далее эксплицировать серии детерминаций от образа жизни к повседневной фактичности человеческого присутствия, прежде всего в той области этой повседневности, которая касается поставленного нами вопроса о чистоте; (3) и, наконец, установить связь между бытийным универсумом и некоторыми моментами сферы общественного сознания.
Современная индустриальная эпоха исторически выросла из Средневековья, из феодального хозяйственного и жизненного уклада, доминирующей отраслью которого было сельское хозяйство. Касательно поднятого нами вопроса повседневные структуры феодализма можно описать следующей цепочкой конститутивных отсыланий:
1. Крестьяне живут ригидной, неподвижной, оседлой, замкнутой и укорененной в земле жизнью. Их повседневное бытие, повседневный труд серпом и мотыгой в поле сущностно связан с уходом за землей и домашними животными.
2. И земледелие, и животноводство так или иначе связаны с испражнениями животных: их надо убирать из хлева, ими надо удобрять землю. В силу же того, что никаких иных удобрений, кроме перегнивших растений, золы и навоза, тогда не существовало, то работа с испражнениями животных была для средневекового крестьянина вынужденной привычностью.
3. Повседневный сельскохозяйственный труд без каких-либо выходных и отпусков, с самого раннего утра и до заката детерминирует особый образ жизни, в котором крестьянский дом оказывается всего лишь местом для ночлега, ибо все остальное время крестьянин проводит вне дома. Такова вообще специфика сельского труда.
4. Само по себе это крестьянское жилье действительно было жалкой хижиной, в которой была всего лишь одна комната, в которой спали, и помещение для кухни. Стены совершенно голые, пол глинобитный, покрытый соломой или сеном. Мебель исчерпывалась сундуком, парой табуреток и кроватями, на которых могло спать от двух до восьми человек. «Простой поденный рабочий ...вынужден был хранить свое скудное сено, немногочисленные инструменты и, возможно, домашнюю птицу в той же комнате, где он ел, спал и где жила вся его семья». В подобной нищете у людей не было даже просто средств украшать свой дом – жизнь заставляла думать совершенно о другом, «средневековое общество было озабочено элементарной задачей добывания пищи».
5. Отсюда – жизнь среди постоянной грязи, убрать которую нет ни сил, ни средств, ни желания. Более того, грязь, являясь налично данной необходимой повседневностью, постепенно освящается церковью. «Первая видимость – это тело. Его следовало принизить. Григорий Великий называл тело “омерзительным одеянием души”. “Когда человек умирает, он излечивается от проказы, каковой является его тело”... Монахи, служившие средневековым людям примером для подражания, беспрестанно смиряли свою плоть... В монастырских уставах указывалось максимальное количество дозволенных ванн и туалетных процедур, поскольку все это считалось роскошью и проявлением изнеженности. Для отшельников грязь была добродетелью. Крещение должно было отмыть христианина раз и навсегда в прямом и переносном смысле».
6. В связи c таким антисанитарным образом жизни появляются эпидемии, которые в христианских кругах никогда не рассматривались в связи с гигиеническими факторами, напротив, они всегда объяснялись «наказанием Божьим». «В них видели священный огонь, кару свыше. Снедаемых жаром больных пользовали всегда одними и теми же средствами: процессиями, публичными молениями, проповедями в церквах, молитвами некоторым святым целителям. В Париже больных чумой несли в собор св. Женевьевы или собор Богоматери, не опасаясь распространить заразу еще больше». «Тысяча лет христианского средневековья подавила все, связанное с телом, – в особенности с телесным “низом”. Существование кишечника воспринималось как факт прискорбный, свидетельствующий о неисправимой ущербности человеческой натуры, с которой только и можно молчаливо смириться. Соответственно, средневековый европеец в быту вел себя так, как будто бы никаких “телесных отходов” вообще не существует».
7. Такое повседневное бытие среди непрерывного отупляющего труда, грязи, болезней, голода и т. д. детерминировало весьма характерное для средневекового человека ощущение безысходного ужаса от этой жизни. Отныне он не рассматривал самого себя в качестве чего-то возвышенного, творения Божия, которое содержит в себе частичку бессмертного Бога. Человеческая жизнь совершенно лишается какой бы то ни было материальной и метафизической ценности, отныне крестьяне – это всего лишь работающие (laboratores), быдло.Отсюда же вырастает и презрительное отношение к самому себе, которое недалекие исследователи связывают с христианским презрением к телесности, в то время как, напротив, подобные христианские учения только и смогли столь широко распространиться в силу действительно скотского существования большинства населения.
Отношение к себе как к скоту породило такой средневековый феномен, как пренебрежение к чистоте тела, когда в эпоху средневековья крестьяне фактически перестали мыться, то есть не только в материально-трудовом, социальном и моральном, но и в гигиеническом смысле превратились в скот. «Простолюдин уже по традиции может быть даже физически неприятным на вид человеком, отличным от прочих. Иначе его и не представляют. Его изображают уродливым, отталкивающим и смешным. Посмотрите, как воинская поэма о Гарене Лотарингском представляет простолюдина Риго: “У него были огромные руки, мощные члены, глаза, отстоящие друг от друга на ширину руки, широкие плечи и грудь, совершенно взъерошенные волосы и черное как уголь лицо. Он по шесть месяцев не умывался, и лицо его не знало иной воды, кроме дождя”».
Попытаемся теперь представить букет тех запахов, которые окружали средневекового крестьянина в его однообразной обыденности. С одной стороны, несомненно, это свежий воздух, полевые, луговые цветы, запах свежескошенной травы и сена, но с другой:
– рабочие запахи: запахи от животных, от их пота и испраж-нений;
– запахи в доме, в котором никогда не прибирались: это и гниющие остатки пищи, которые просто-напросто втаптывали в глиняный пол; закопченные от дыма домашнего очага стены и потолок; у особо бедных крестьян сюда добавлялись запахи от животных (птиц, свиней, собак), которые, за неимением у крестьянина хлева, жили прямо в человеческом жилище; туалетов в деревнях вообще не существовало: на улице для этих целей использовали открытое пространство (просто отошел в сторону, сделал свое дело – вот тебе и отхожее место)или выгребную яму открытого типа; в доме же по ночам и зимой (когда на улицу было выходить холодно) использовали горшок, который стоял всю ночь в единственной комнате крестьянского жилища, в которой спала вся семья вкупе с животными; сюда же надо добавить и запахи от приготовляемой пищи, которая в основном готовилась из злаков, чеснока, лука, гороха, бобов и капусты; большое использование пряностей в средневековой кухне было связано с тем, что в те времена не было возможности долго хранить продукты, в первую очередь мясо, поэтому чеснок использовали не столько для придания пище особого вкуса, как это делаем сегодня мы, а для того, чтобы перебить запах и привкус тухлого мяса;
– запахи от одежды: у крестьянина было всего две одежды –повседневная и праздничная; в повседневной одежде крестьянин и работал, и ел, и отдыхал, и спал (особенно в холодную погоду). Эту единственную одежду занашивали до лохмотьев и, видимо, не стирали специально, ибо стирка способствует быстрейшему превращению тканей в лохмотья, поэтому если не единственным, то основным видом ее очищения от грязи был дождь. В силу того, что одежда фактически не снималась крестьянином, она впитывала в себя всю совокупность запахов, которые его окружали: это и запахи от животных, и от собственного тела, и от костра в очаге, и от вытираемых об нее рук во время еды;
– запахи от собственного тела: в силу того, что в эту эпоху специально почти не мылись, от тела исходил соответствующий запах, который смешивался с запахом изо рта (зубы, пораженные гнилью, а также и запахи от пищи, приготовляемой на основе лука и чеснока), сюда же надо добавить разного рода гнойные наросты, лишаи и грибковые заболевания, которые были весьма распространены в ту эпоху.
Таковы были повседневные запахи, окружающие средневекового крестьянина, фундированные в образе его жизни.
А теперь надо представить этот образ жизни, эту непосредственную повседневность крестьянина, постоянно окруженную запахами испражнений животных и своих собственных, запахом своего тела и запахом от своей одежды... Для него это был запах его собственной жизни, запах его окружающего мира. Конечно же, с нашей сегодняшней точки зрения, совокупность всех этих «ароматов» можно было бы назвать смрадом, но для средневекового человека это был его собственный запах, который сопровождал его всю жизнь, от рождения до самой смерти. Он просто-напросто не ощущал этого запаха. Точно так же, как и мы, жители современного города, не ощущаем запаха выхлопных газов автомобилей, за-водских труб, запаха, от которого средневекового крестьянина стошнило бы. Так, в одном фаблио XIII в. рассказывают об одном крестьянине следующее: «Один мужик, погонщик ослов, проезжает через Монпелье по улице Бакалейщиков мимо лавки, где слуги толкут в ступке душистые травы и пряности; вдохнув эти ароматы, к которым он не привык, крестьянин тут же падает в обморок. Дабы привести его в чувство, не находят ничего лучше, как поднести к его носу лопату навоза: погонщик приходит в себя, ибо тут он в своей стихии... Позднее Рютбеф скажет в одном из своих фаблио, что дьяволу не нужны в аду крестьяне, потому что они очень плохо пахнут».
В силу же тотальной встроенности этого крестьянина в обыденные структуры деревенского образа жизни, наполненного запахами испражнений и пота, для него с необходимостью конституируется привычное, равнодушное отношение и к самим испражнениям.
Для средневекового города так же, как и для деревни, было характерно весьма антисанитарное состояние. Более того, если в деревне нечистоты шли на перегной в землю, то есть хоть каким-то образом утилизировались, то в городе не было и этого. В силу того, что в средневековых городах не существовало водостоков для сбрасывания помоев и испражнений, то их просто-напросто выбрасывали или выливали из окон прямо на улицу, где в них тонули не только пешеходы, но и всадники. «Даже в Версале еще в XVIII в. балконы дворцов и окрестные кустарники часто служили местом для отправления естественных надобностей». «В жаркую погоду тошнотворный запах заполнял улицы и проникал в дома».
Испражнялись также прямо на улицах. Вряд ли в средневековую эпоху в городах вообще существовали общественные туалеты, поэтому у средневековых жителей и современных сельчан нет в сознании, в структуре их повседневной системы релевантностей отсылания к туалету как отдельному сооружению, ибо в их обыденном опыте желание испражниться в большей степени связывается с «кустом».
«Средневековый европеец в быту вел себя так, как будто бы никаких “телесных отходов” вообще не существует. Они привычно выводились за пределы дома простым выплескиванием ночных горшков в окно или дверь (сточные канавы вдоль улиц промывались естественным порядком во время дождя). И даже рыцарские замки на своих гордых возвышениях были оснащены только простодушной комнаткой, нависающей над склоном. Дырка в дощатом полу обеспечивала “пропадание” отходов из виду, а что с ними делалось потом, на склонах – это уже и неважно. Антигигиеничность подобных обычаев никого не смущала. Страшные эпидемии чумы и холеры, регулярно опустошавшие Европу, также воспринимались со стоическим спокойствием: Бог дал, Бог и взял. “Прах есмь и в прах отыдеши”».
В силу этого мы должны отнести средневековых горожан к той же категории людей, что и средневековых крестьян: и для тех, и для других испражнения не вызывали отвращения, ибо они были неотъемлемой сущностной частью структуры их повседневного бытия. Более того, и феодалы, подобно крестьянам и горожанам, вели такой же образ жизни: «Крестьянин вонял, как и священник, ученик ремесла – как жена мастера, воняло все дворянство, и даже король вонял, как дикое животное, королева, как старая коза, и летом, и зимой».
Таким образом, исходя из вышеприведенного анализа, можно сделать вывод, что средневековый человек не испытывал никакого отвращения-к-испражнениям. Но тогда возникает вполне уместный вопрос: каким же образом в таком случае исторически конституировался феномен отвращения-к-испражнениям?
Изменения в феодальной повседневности вызвали к жизни развитие капитала, развитие, которое в игре своих имманентных закономерностей привело к формированию индустриального общества в отличие от аграрного средневековья. Поэтому первое отличие, которое бросается в глаза, – это городская культура капитализма в противоположность сельскому феодализму.
Если до XI в. города средневековой Европы представляли собой всего лишь военные, административные и церковные центры, то со времен отделения ремесла от земледелия они постепенно приобретают также роль промышленно-торговых центров. В период с XVI до XVIII вв. происходил постепенный рост городов, вытеснение мелких ремесленников сначала цехами, а затем мануфактурами. Но – и это нас в данном случае интересует сейчас больше всего – образ жизни горожан если и отличался от деревенского, то весьма незначительно: на улицах средневековых городов паслись козы, овцы и свиньи. Так, в отношении XV в. один французский историк говорит: «Контраст между городом и деревней был менее заметным, а граница – более определенной, чем сегодня. Средневековый город распространяет свое влияние на окружающую его равнину, предместья становятся его продолжением, он располагает экономической и даже политической властью над пригородом. Его обитатели – духовенство и простые горожане – имеют собственность за пределами городской стены и иногда отправляются лично присматривать за уборкой урожая – муниципальные власти стараются направить то, что производят соседние деревни, на городской рынок, чтобы обеспечить защиту от голода. И наоборот, сельский пейзаж проникает за городские стены: между застроенными кварталами остаются обширные поля и луга и на улицах можно увидеть повозки, груженные сеном, соломой и навозом». То же самое можно отнести к городскому пейзажу XVI–XIX вв. Более того, даже современные малые города во многих отношениях представляют собой смесь села с собственно городом.
Но, тем не менее, именно в городах постепенно начинает конституироваться современность (modernity): появление мануфактур в середине XVI в. и особенно появление фабрик в конце XVIII в. потребовали серьезно изменить структуры повседневности городского образа жизни: фабрично-заводская система требует совершенно иной организации жизненного процесса и пространства, нежели система аграрного типа. В результате изменений в способе производства у городских жителей, теперь фактически тотально занятых в промышленном производстве, не остается никакого свободного времени для дополнительных занятий земледелием. В итоге сельское хозяйство постепенно вытесняется промышленностью сначала на окраины, а затем и за пределы города. Бывшие сельскохозяйственные угодья ремесленников если не застраиваются новыми фабриками и заводами, то превращаются в городские парки. Место крохотных ремесленных мастерских и мануфактур занимают огромные фабрики и заводы со своими цехами, складами, железнодорожными путями, дымящими трубами, заборами и проходными. Индустриальный способ производства взрывает старую повседневность и конституирует совершенно новый тип общественного бытия. Развитие машинной индустрии и торговли с необходи-мостью отсылает к изменению всей городской инфраструктуры. Исчезают хижины и лачуги, вместо которых вырастают сначала кирпичные, а затем железобетонные многоэтажные здания. Небольшие лавочки замещаются современными магазинами и супермаркетами. Появляются разного рода городские службы. Необходимость своевременного перемещения сырья и товаров, что так важно для капиталистического хозяйства, в котором ценна каждая секунда и вообще свобода передвижения, привела к радикальному преобразованию городского пространства: постепенно глинобитные дороги были сначала вымощены камнем, а затем – асфальтом; для элиминации помоев и нечистот, затрудняющих передвижение, были созданы водостоки, коммунальные службы, дворники, ассенизаторы и общественные туалеты; свалки мусора, раньше валяющиеся по всему городу, постепенно были вытеснены за пределы города и объединены в городскую свалку. Если в XIX – начале XX в. в городах, как и прежде, используют гужевой транспорт, неизбежно связанный с испражнениями животных на дорогах, то, начиная с массового производства автомобилей, принцип действия которых основан на двигателе внутреннего сгорания, транспортные средства, двигаемые животными, постепенно вытесняются. Сегодня почти невозможно в крупном городе встретить повозку, запряженную лошадью. Повсеместно появляются прямые дороги, что связано с использованием машин для передвижения. Появляются новые жилые здания, ничем уже не связанные с сельским хозяйством, которые в силу общего изменения повседневного бытия начинают постепенно обустраиваться разного рода жилищными удобствами.
Из этого простого перечисления видно, что вырастающий из повседневных изменений феодальной тотальности капиталистический способ производства с необходимостью влечет за собой перестройку всего наличного общественного уклада, который начинает шаг за шагом «подстраиваться» под новые производственные и организационные условия бытия.
Все эти нововведения явились следствием не какой-то совершенно случайно возникшей идеи «цивилизованности», а выросли из развертывания капиталистического способа производства как его необходимые имманентные следствия. Ясно, что многие из этих следствий возникали как сопутствующие моменты развития, которых никто не ожидал, но которые, тем не менее, встроились в структуры современного способа производства и образа жизни. Многие из этих следствий несут на себе отпечаток прошлых эпох, но все же все они, так или иначе, – итог, результат имманентной логики развития капитализма.
Конечно, этот процесс шел весьма противоречиво и неравномерно. Еще в середине XIX в. рабочие Лондона жили в совершенно скотских условиях, мало чем отличающихся от существования средневековых крестьян, сегодня же их быт изменился радикально, хотя трущобы до сих пор сохраняются во всех крупнейших и богатейших городах Европы и США. Процесс урбанизации, модернизации самих городов до сих пор не завершился, ибо сохраняются многие пережитки средневековья, порой даже совершенно неприметные для глаз. Но надо признать – городской пейзаж радикально изменяется всего за какие-то 100 лет, в то время как феодальный тип города-деревни существовал целое тысячелетие. «Города все больше теряют свое значение центров производства и превращаются в центры торговли и услуг, а современные города больше не похожи на города XIX в. – с их дымящей промышленностью, примитивными жилищами, отвратительным состоянием санитарии».
Таким образом, можно сказать, что общая тенденция развития западноевропейских индустриальных городов – элиминировать сельское хозяйство и все то, что с ним связано, за свои пределы, в предместья.
Вышеописанные изменения в городском образе жизни, фундированные в возникновении и развитии нового, индустриального способа производства, привели к очень важному с точки зрения рассматриваемой здесь проблемы следствию, а именно – постепенной элиминации грязи и испражнений из сферы видимого, обозреваемого пространства. Сначала это коснулось внешней стороны городского образа жизни. Развитие машинного производства приводит к вытеснению сельского хозяйства за пределы города, то есть вытесняется основной источник испражнений и неизбежной «грязи» при земледелии и животноводстве. Высвобожденное пространство застраивается, асфальтируется, то есть «зачищается», облагораживается. Затем постепенно исчезают гужевой транспорт и всадники на лошадях, замещаясь автомобилями и мотоциклами, которые «не испражняются». В результате испражнения этих животных вообще перестали появляться на городских улицах.
Хотя это всего лишь поверхностно внешние изменения, тем не менее, чистота постепенно визуально начинает связываться с отсутствием грязи и прежде всего – с отсутствием испражнений, ибо люди перестают непосредственно сталкиваться с этим феноменом в рамках своей уличной повседневной суеты. Но капиталистический способ производства, повинуясь имманентным законам своего развития, неумолимо идет дальше и расширяет область так понятой чистоты, захватывая все новые и новые сферы.
Для того, чтобы описать этот процесс тотализирующего внедрения индустриализма в структуры обыденной повседневности, необходимо пояснить один «технический» момент, связанный с современным капитализмом.
Средневековый ремесленник не стремился к получению прибыли, круг его заказчиков был весьма узок и лично ему известен, поэтому ему не надо было заботиться о том, чтобы искать покупателей на свои изделия. Другое дело – капиталист. Его предприятие выпускает товары не на индивидуальный заказ, а на неизвестный безличный рынок, на котором действуют конкуренты, для борьбы с которыми необходимо достаточно высокое качество товара. Это имманентное движение капитализма имеет несколько весьма важных следствий относительно рассматриваемой нами проблемы.
Первым следствием необходимости выпускать качественную продукцию было то, что качество требует чистоты на рабочих местах, чистоты одежды рабочих, чтобы не допустить, например, в плавильном производстве, включения инородных частиц в слиток, или чистоты рук рабочих, отправляющих готовое изделие на контроль, чтобы хорошо была видна незапачканная поверхность детали при ее визуальном контроле на конвейере, или чистота при газовой сварке в целях взрывобезопасности и т. д. Затем эта необходимость чистоты (в производственном смысле этого слова) была закреплена в разного рода инструкциях и методах производства.
Далее капиталисты стали инвестировать средства в социальную сферу, прежде всего в благоустройство городов. Это вовсе не благотворительность, как может показаться на первый взгляд, – в капиталистической системе отношений нет места простой человечности. На наш взгляд, это бессознательная реализация идеи о том, что практическая деятельность во внешних условиях присутствия, интериоризируясь, конституирует аналогичный внешнему внутренний мир человека: если капиталисту необходима производственная чистота, то добиться ее можно либо введением жестких порядков на предприятии относительно чистоты (что никогда не приводило к долгосрочному эффекту), либо созданием чистых условий в повседневной жизни работников, которые бы посредством интериоризационных процессов вошли в кровь и плоть людей, и тогда не надо было бы их заставлять соблюдать чистоту на рабочем месте, – это было бы для них само собой разумеющимся автоматизмом.
Третье следствие. Если до начала XX в. качество промышленных товаров в силу ненасыщенности мирового рынка не стояло под вопросом, то начиная с первого десятилетия прошлого столетия этот вопрос поднимался все чаще и чаще: потребитель, имея перед собой один и тот же товар разного качества, выбирал тот, чье качество было выше. Поэтому, чтобы выжить в рыночных условиях, капиталисты начали ориентироваться на качество. А последнее для своей реализации требовало квалифицированных рабочих. Если раньше рабочих можно было выжимать до изнеможения, а затем выбрасывать на улицу без всякого ущерба для производства, то теперь капиталист становится заинтересованным не только в сохранении ценного работника на предприятии, но и его обучении и т. п., то есть в его «мотивации». При этом капиталистом движет все та же всепоглощающая страсть – страсть к наживе: в действительности ему, капиталисту, нет совершенно никакого дела до этого работника в эмоциональном, чисто человеческом плане, ему важен результат труда работника на его, капиталиста, предприятии. Но капиталист понимает, что этот результат будет выше, если работник будет более обеспечен, не будет стремиться уйти к конкуренту и т. д. Следствием этого становится повышение заработной платы у высококвалифицированной части рабочих, а значит, и рост их благосостояния, улучшение их бытовых условий. Таким образом, чисто экономическая потребность привела к тому, что чистота из завод-ского цеха вышла на улицы городов и вошла в квартиры горожан.
Все эти исторически конституирующиеся моменты, взятые в своей системности, детерминируют формирование «естественного» для сегодняшнего человека представления о том, что разного рода болезни и их этиология непосредственно связаны с «грязью», «нечистотами». Именно отсюда возникает представление о чистоте как отсутствии испражнений, которые в силу этого получают статус нечистот.
Понятая так чистота постепенно из внешней фактичности распространяется на необходимость поддерживать чистоту не только на рабочем месте, но и на улице, в общественных учреждениях, в подъездах домов, в самом человеческом жилище, – появляются понятия общественной, бытовой и индивидуальной гигиены, которые были совершенно немыслимы в эпоху Средневековья и раннего капитализма: общественные и бытовые туалеты, канализация, специальные мусоросборники, закрывающиеся ведра под мусор в квартирах, коммунальные службы и дворники – все это стало именно повседневностью современного горожанина.
Далее это с необходимостью конституирует совершенно иное отношение и к своему собственному телу, зубам, волосам, ногтям, запаху от носков и т. п. Человеческий мир повседневности шаг за шагом элиминирует из своего содержания «грязь» и «вонь». Мир очищается, постепенно становясь «стерильным»: сегодня даже строительные материалы вроде красок производят без всякого запаха.
Все эти бытийные, базисные изменения в образе жизни, детерминированные индустриальным способом производства, так или иначе отражаются в регулятивной надстройке. Уже в эпоху позднего средневековья и раннего капитализма государство и муниципалитеты обращали внимание на необходимость введения юридического контроля над санитарным состоянием городов, но присутствие сельского хозяйства и животного транспорта в городах делало все эти попытки тщетными.
Нравственность средневекового человека никогда не связывалась непосредственно с гигиеной тела и жилища. Напротив, важна была, если так можно выразиться, гигиена души. Сегодня же мы имеем в некотором роде обратную ситуацию: испражнение («мелкое хулиганство» в административном праве, то есть то, что оскорбляет «общественную нравственность») на улице оказывается мерилом человеческой нравственности, духовности.
Все это означает, что в связи с постепенным очищением нашего повседневного бытия от испражнений и нечистот происходит интериоризация внешней формы «чистого» общественного бытия в структуры человеческих действий и человеческого сознания.
1. Все, что связано с испражнениями, в сознании начинает ассоциироваться с нечистотами, нечистым, грязным. То же самое относится и к действиям: процессы испражнения, «пускания ветров», мочеиспускания становятся «гадкими», а потому происходит постепенная их интимизация, – люди начинают стесняться выполнять эти действия в присутствии других людей, а потому и создаются туалеты с отдельными кабинками. Современный горожанин, например, стремится закрыться от других при совершении акта испражнения, если для этого, конечно, имеются возможности (спрятаться в кустах, за гаражами, встать за дерево, спуститься в подвал). Причем здесь играет роль не только желание спрятать «срам», но и сознательное желание укрыться от стражей закона, которые могут нас в соответствии с действующим административным законодательством просто-напросто оштрафовать. С другой стороны, то, что мы сейчас закрываемся в туалете, свидетельствует также и о том, что этот процесс либо достаточно интимный, либо мы при этом не желаем никому мешать и портить воздух.
2. Вслед за этим и слова, обозначающие все эти явления, также становятся табуизированными. Они превращаются в ругательства, вроде слова «дерьмо», которое сегодня стало весьма популярным. Сквернословие в средние века по своему лексическому и семантическому содержанию было связано с богохульством, а вовсе не с половой или фекальной сферами.
3. Далее, конституированное отвращение к «смраду» от естественных продуктов жизнедеятельности означает не только отрыв от «первой природы» и тотальное погружение в структуры природы «второй», но также и формирование некрофильских наклонностей. Естественное начинает выступать в качестве чего-то противоестественного, того, что надо спрятать, скрыть от других, уничтожить. Люди начинают использовать хитрые конструкции унитазов, позволяющие быстро избавиться от испражнений до того, как они начали вонять; если раньше пользовались только туалетной бумагой, то сегодня изобрели биде; начинается настоящая война с вонью от испражнений: от биотуалетов и памперсов до различных ароматизаторов, то есть возникает целая индустрия для производства подобных предметов. В конце концов из мира начинает исчезать собственно природное.
4. Такое положение дел вынуждает современного человека, оказавшегося посреди большого города в не очень приятной ситуации, либо терпеть, либо нарушать закон, в то время как в средневековую эпоху или в современной деревне достаточно было просто отойти в сторону. Все это влечет за собой чувство виновности, низменности – имманентное повседневности молчаливое признание испражнений и всего того, что с ними связано в качестве грязи и нечистот, в конце концов, конституирует наше особое эмоциональное отношение к ним – омерзение. Поэтому надо признать, что качественное содержание эмоциональной сферы фундируется не в «вечной природе человека», а в исторически меняющихся социальных структурах. Эмоции, как все человеческое, историчны. Думается, что в средневековую эпоху при желании испражниться человек никаких эмоциональных стеснений не испытывал.
5. То же самое относится и к эстетическим аспектам восприятия испражнений современным человеком: если кто-то из нас, современных горожан, увидит посреди улицы кучу фекалий, то это зрелище вызовет у него если не отвращение, то уж точно эстетическое чувство того, что этот предмет явно не вписывается в структуры городского пейзажа. Более того, в современном эстетическом восприятии «испражнения» непосредственно схватываются как безобразное.
Итак, мы видим, что элиминация испражнений животных из повседневности городского образа жизни в связи с развитием машинной индустрии и капитализма в целом приводит в конце концов к стремлению элиминировать продукты человеческой жизнедеятельности вообще из поля человеческого зрения посредством чистоты на улицах, в домах, посредством особых конструкций туалетов, канализаций, ароматизаторов и т. д. и т. п. Далее элиминация испражнений интериоризируется, в результате чего возникают различные формы сознания (эмоционального, этического, эстетического, семантического), в которых испражнения и все связанное с ними оказывается чем-то нечистым, грязным, неприличным, то есть тем, что вызывает... отвращение.
Таким образом, феномен отвращения-к-испражнениям имеет своим конституирующим моментом переход от аграрного феодализма к индустриальному капитализму. А потому ответ на вопрос, поставленный нами в самом начале, – почему мы испытываем отвращение к испражнениям и их запаху? – после нашего краткого разыскания будет звучать для неискушенного в философских изысканиях человека несколько странно: потому что мы живем в постиндустриальной повседневности.
Для жителей мегаполисов отвращение-к-испражнениям представляется само собой разумеющейся, естественной, нормальной вещью, и в силу этой само собой разумеющейся нормальности и привычности мы в большинстве случаев наивно экстраполируем современные нам социальные феномены и наши переживания этих феноменов на предшествующие или будущие эпохи. В результате такой антиисторической экстраполяции формируется представление о том, что во все времена люди думали, чувствовали, любили, желали, страдали одинаково. Маркс показал – и в этом его величайшая заслуга – то, что в действительности все социальное бытие насквозь исторично: от форм производства и совместного бытия до чувств, мыслей и эмоций.
Вытесняясь из сферы непосредственного восприятия, испражнения перестают быть постоянным привычным фоном повседневного бытия, оказываясь лишь некоторой досадной необходимостью. Но «хитрость истории» состоит в том, что этот процесс «выбрасывания» экскрементов за пределы постиндустриального города приводит к тому, что город постепенно становится местом, окруженным отбросами, но «хуже всего не то, что мы завалены со всех сторон отбросами, а то, что мы сами становимся ими» (Ж. Бодрийяр).
Власть факта. Из истории гигиены.
Королева Испании Изабелла Кастильская признавалась, что за всю жизнь мылась всего два раза - при рождении и в день свадьбы. Французский король Людовик XIV издал эдикт, требующий при посещении двора не жалеть духов. В свое время католическая церковь запретила публичные бани из-за распространения венерических заболеваний, однако в XIX веке эпидемии холеры заставили всерьез задуматься о личной гигиене. Почему ей не уделялось должного внимания во времена античности, и что обусловило новый интерес к этой теме. В программу вошли сюжеты: история общественного туалета (от Рима до современной Западной Европы), кто такой цирюльник и какова его роль в культурной истории и, наконец, советская косметика как один из символов эпохи развитого социализма.
Гости в студии: Людмила Алябьева - историк моды и Дмитрий Пузаков - научный сотрудник Государственного исторического музея.







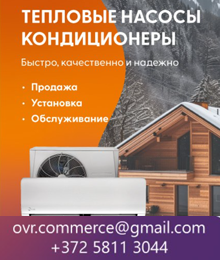




Комментарии
Понятие чистоплотности - это одна из черт национальности. Всем известно, что русские чистоплотнее эстонцев, а татары чистоплотнее русских (а может татары и привили древним русским это? ). У немцев пукнуть или смачно высморкаться за столом в общественном месте в порядке вещей. У американцев лечь на кровать в уличной обуви это даже во всех фильмах показывают. А у индусов чем мощнее рыгнешь, тем больше отблагодаришь повара за обед
). У немцев пукнуть или смачно высморкаться за столом в общественном месте в порядке вещей. У американцев лечь на кровать в уличной обуви это даже во всех фильмах показывают. А у индусов чем мощнее рыгнешь, тем больше отблагодаришь повара за обед  Впрочем, это уже не про чистоплотность.
Впрочем, это уже не про чистоплотность.
Отправить комментарий